Анна алексеевна Савельева
Глава 6
роман ежи анджеевскго «Месиво»:
новое содержание в новой форме
новое содержание в новой форме
«Месиво» — роман сложной судьбы и сложной структуры. Замысел книги, как это видно из предыдущей главы, неоднократно претерпевал существенные изменения. В результате Анджеевский объединил в романе несколько разрозненных (и неравноценных с точки зрения композиции) сюжетов, каждый из которых отмечен своей спецификой.
Как пишет В. А. Хорев: «Анджеевский стремился осуществить давнюю мечту критики: написать произведение большой формы о современном обществе. Однако в итоге получился роман о невозможности целостного изображения современных процессов» [1], или роман — о невозможности написать роман.
Гетерогенная, внутренне противоречивая структура текста, как будто намеренно демонстрирующего читателю свою «недоделанность» и неоднородность, получила обоснование на уровне содержания. По мысли писателя, «месиво формы» отражает хаос действительности — беспорядочной, неустроенной, децентрированной, лишенной причинно-следственных связей и ценностных ориентиров. Месиво есть и форма романа и предмет книги, так что «месиво» повествования как бы опережает восприятие мира как месива.
Как становится ясно из Дневника [2] писателя, Анджеевский долго и придирчиво выбирал название для книги [3], прежде чем остановился на слове «miazga» - емком, полисемичном, но не самом употребительном и трудно переводимом на иностранные языки [4].
Позже в интервью Яцеку Тшнаделю Анджеевский рассказывал: «…это слово непереводимо ни на один иностранный язык. Я всегда старался объяснять иностранцам, что miazga — это то, что остается от человека, когда он, скажем, падает с двадцатого этажа. Или когда его переезжает грузовик» [5].
Заглавие романа, как всегда у Анджеевского, расширяет и дополняет содержание, суммирует ряд смысловых кодов, значимых как в сфере поэтики книги, так и затронутых в ней проблем.
С точки зрения содержания смысловой доминантой заглавия становится значение «хаос», а именно — путаница и дисгармония, дезинтеграция и дезориентация, охватившее современное писателю польское общество от низов, социального дна, до самой верхушки — властей и художников, т. е. «пастырей», призванных указывать путь и задавать ценностные ориентиры, а в действительности — опустившихся, развращенных, беспомощных едва ли не более, чем их «заблудшее стадо».
В. Британишский пишет: «Как бесформенное „месиво“ воспринимает Анджеевский не только литературно-художественную, но и всю общественную, идеологическую, интеллектуальную и нравственную (безнравственную!) жизнь Польши 1960-х годов. В пространстве книги теснятся, толкаются, сталкиваются и представители польской интеллигентской элиты, и варшавская богема разных уровней до самого дна, и представители власти, чиновники и сановники от культуры. Все они перемешиваются в общем месиве, как в коллективном грехопадении, как в каком-то свальном грехе» [6].
Как пишет В. А. Хорев: «Анджеевский стремился осуществить давнюю мечту критики: написать произведение большой формы о современном обществе. Однако в итоге получился роман о невозможности целостного изображения современных процессов» [1], или роман — о невозможности написать роман.
Гетерогенная, внутренне противоречивая структура текста, как будто намеренно демонстрирующего читателю свою «недоделанность» и неоднородность, получила обоснование на уровне содержания. По мысли писателя, «месиво формы» отражает хаос действительности — беспорядочной, неустроенной, децентрированной, лишенной причинно-следственных связей и ценностных ориентиров. Месиво есть и форма романа и предмет книги, так что «месиво» повествования как бы опережает восприятие мира как месива.
Как становится ясно из Дневника [2] писателя, Анджеевский долго и придирчиво выбирал название для книги [3], прежде чем остановился на слове «miazga» - емком, полисемичном, но не самом употребительном и трудно переводимом на иностранные языки [4].
Позже в интервью Яцеку Тшнаделю Анджеевский рассказывал: «…это слово непереводимо ни на один иностранный язык. Я всегда старался объяснять иностранцам, что miazga — это то, что остается от человека, когда он, скажем, падает с двадцатого этажа. Или когда его переезжает грузовик» [5].
Заглавие романа, как всегда у Анджеевского, расширяет и дополняет содержание, суммирует ряд смысловых кодов, значимых как в сфере поэтики книги, так и затронутых в ней проблем.
С точки зрения содержания смысловой доминантой заглавия становится значение «хаос», а именно — путаница и дисгармония, дезинтеграция и дезориентация, охватившее современное писателю польское общество от низов, социального дна, до самой верхушки — властей и художников, т. е. «пастырей», призванных указывать путь и задавать ценностные ориентиры, а в действительности — опустившихся, развращенных, беспомощных едва ли не более, чем их «заблудшее стадо».
В. Британишский пишет: «Как бесформенное „месиво“ воспринимает Анджеевский не только литературно-художественную, но и всю общественную, идеологическую, интеллектуальную и нравственную (безнравственную!) жизнь Польши 1960-х годов. В пространстве книги теснятся, толкаются, сталкиваются и представители польской интеллигентской элиты, и варшавская богема разных уровней до самого дна, и представители власти, чиновники и сановники от культуры. Все они перемешиваются в общем месиве, как в коллективном грехопадении, как в каком-то свальном грехе» [6].
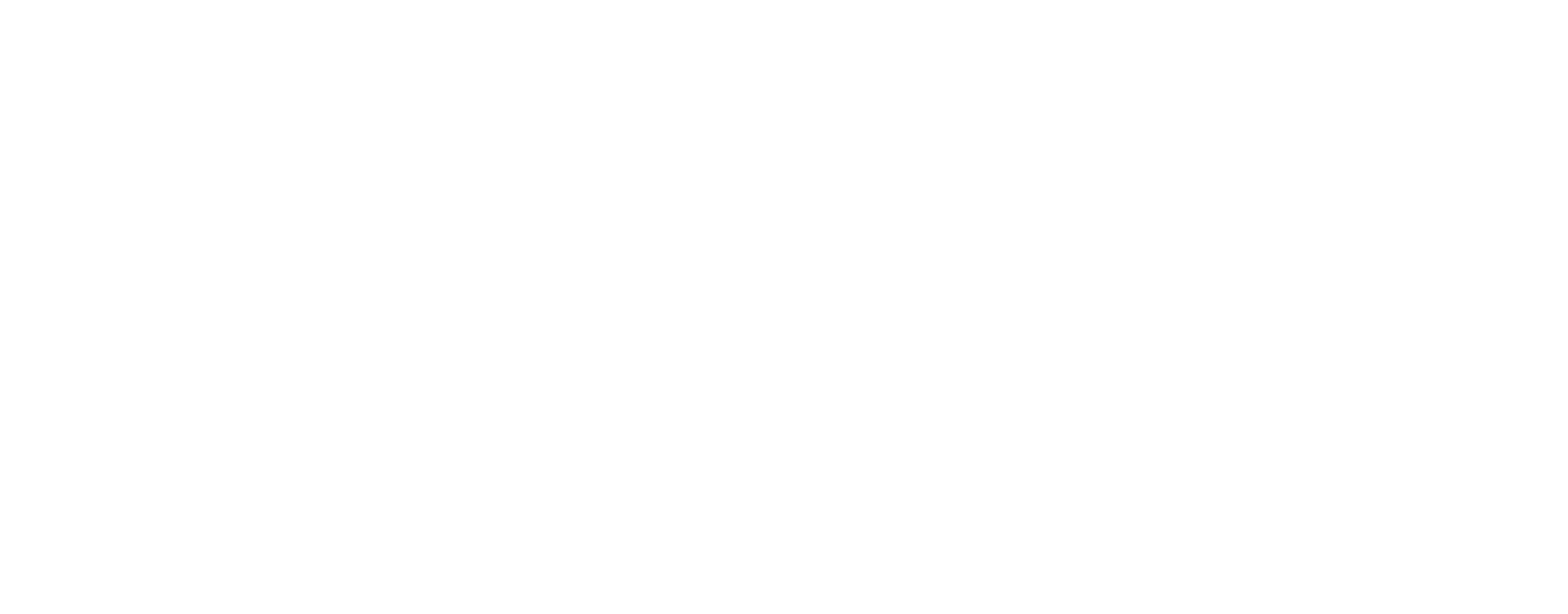
Обложки романа «Месиво», издания разных лет
В последнем крупном романе Анджеевского вновь возникает как будто почерпнутая из юности и во многом по-юношески максималистская оппозиция: лад и ад. Стареющий писатель с новой силой ищет гармонии, лада — на этот раз в общественной и нравственной жизни, — а находит все тот же ад, мрак и смрад, которые царят в душах людей и управляют отношениями между ними.
Трудно не согласиться с критиком З. Копецем, который отмечает, что в «Месиве» писатель фиксирует результат того процесса «обращения лада в хаос» [7], который связан с крушением двух главных мифов, лежащих в основе всего его творчества: мифа католического и мифа коммунистического. В результате «Месиво», по мысли Копеца, становится репликой не только на «Лад сердца», но и на «Пепел и алмаз», «ведь именно в этом романе Анджеевский представил генезис процессов, которые и довели общество до такого как раз состояния» [8], т. е. до состояния месива-хаоса, или, как следствие, месива-замешательства.
В замешательстве пребывает как большинство героев романа, не знающих, куда податься и как жить, так и сам автор — сомневающийся, как дальше поступить с сопротивляющимся его воли и буквально «ускользающим» от его намерений текстом[9].
Не без горькой иронии (в том числе, самоиронии) писатель намеревался назвать свой роман «Эта верба моя», имея в виду детскую считалку, текст которой он приводит в романе:
Трудно не согласиться с критиком З. Копецем, который отмечает, что в «Месиве» писатель фиксирует результат того процесса «обращения лада в хаос» [7], который связан с крушением двух главных мифов, лежащих в основе всего его творчества: мифа католического и мифа коммунистического. В результате «Месиво», по мысли Копеца, становится репликой не только на «Лад сердца», но и на «Пепел и алмаз», «ведь именно в этом романе Анджеевский представил генезис процессов, которые и довели общество до такого как раз состояния» [8], т. е. до состояния месива-хаоса, или, как следствие, месива-замешательства.
В замешательстве пребывает как большинство героев романа, не знающих, куда податься и как жить, так и сам автор — сомневающийся, как дальше поступить с сопротивляющимся его воли и буквально «ускользающим» от его намерений текстом[9].
Не без горькой иронии (в том числе, самоиронии) писатель намеревался назвать свой роман «Эта верба моя», имея в виду детскую считалку, текст которой он приводит в романе:
“
Влез на грушу,
Тряс петрушку,
Лук уродился,
Он веселился,
Пришел хозяин того банана,
Говорит: «Слезай с моего каштана!»
Эта верба моя. (С.243).
Тряс петрушку,
Лук уродился,
Он веселился,
Пришел хозяин того банана,
Говорит: «Слезай с моего каштана!»
Эта верба моя. (С.243).
По мысли Анджеевского, именно эта нелепица, наилучшим образом отражает то ощущение тотального хаоса, непонимания и абсурда, которое стало лейтмотивом романа «Месиво».
В польском языке слово miazga содержит и еще один семантический денотат, неизвестный русскому переводу и связанный со значением однокоренного глагола rozmiażdżyć, т. е. «раздробить, размозжить, раздавить» (вспомним объяснение, которое сам Анджеевский давал слову miazga). Это значение коннотирует (на уровне ассоциаций) с такими понятиями как: политическое давление, государственная машина, бюрократический аппарат. Таким образом, месиво — это еще и аллегория давления, провоцирующего подавленность — беспомощность властей и творческое бессилие художников.
По отношению к форме текста заглавие «Месиво» в первую очередь означает «мешанина». Вся поэтика романа базируется на смешении разнородных и неравнозначных элементов: стилей, художественных приемов, сюжетных линий, персонажей, временных пластов, форм и манер повествования.
Сам Анджеевский пишет в Дневнике: «Если у меня в результате различных изменений образовалась форма, в которую можно вместить все (курсив мой — А.С.), то почему я должен от этой благотворной свободы отказываться? Это должно быть месиво» (С.344).
Отличительной чертой этой новой повествовательной формы оказывается… бесформенность. Критик Томаш Бурек пишет о «Месиве»: «массивный, сознательно бесформенный, полиморфичный ком (курсив мой — А.С.) прозы» [10].
Роман в буквальном смысле то рассыпается на части, едва связанные между собой общими героями или сюжетными хитросплетениями, то обрастает множеством периферийных мотивов, деталей, фабульных наслоений, избыточных, казалось бы, даже для самого внимательного и искушенного читателя, превращаясь в громоздкую, трудно управляемую романную массу.
М.Домбровский пишет: «Открытая форма, отсутствие иерархии мотивов и проблем, произведение представляется скорее замыслом, нежели завершенным объектом» [11].
Такая незавершенность, негативно воспринятая рядом критиков, была программной для Анджеевского. В «Месиве» Анджеевский настаивает на «незаконченности», которая, по его словам, не равна «неисполненности» (С.480). Повествователь в Дневнике указывает: «…это незаконченность, вытекающая не из невозможности окончания, а из сознания, что по отношению к материи окончание произведения также есть и его незавершенность, так зачем притворяться?, во имя чего внушать и себе, и читателю, что, заканчивая произведение согласно с действующими правилами эстетики, я достигну большего, нежели представляя его в форме незавершенного месива?» (С.480).
В этом смысле «Месиво» есть не только и не столько месиво разных форм, сколько сознательный отказ от формы, антитеза к форме, или, как нередко характеризует текст критика, «антиформа», «антироман».
Писатель активно использует технику литературного коллажа, приемы нонселекции, «информационного шума», формального параллелизма, затрудняющие целостное восприятие текста и направленные на создание фрагментарного дискурса. Ян Блоньский замечает: «В этой особенной книге фрагмент на фрагменте сидит и фрагментом погоняет! Совсем как в изображаемой действительности, где ничего не доводится до конца, а если и доводится, то только в покалеченной, извращенной форме» [12].
Фрагментарность, специфически понятая незавершенность является неотъемлемой характеристикой многих произведений Анджеевского на протяжении всего его творчества: начиная с отрывков никогда не законченных дебютных романов «Ночь» («Noc») и «Сошествие с небес» («Zniebostąpinie»), через военный рассказ «Возвращение», предваренный авторским подзаголовком «фрагмент романа», вплоть до повестей 1980 годов. Показательно также, что с публикации фрагментов, т. е. «частей целого, которого не было"[13], начиналась история «Месива».
Анджеевский выделяет в своем романе три части:
Между вторым и третьим разделами помещается часть, озаглавленная «Интермедия или польские биографии» («Intermedia czyli Polskie Życiorysy») — 87 расположенных в алфавитном порядке биографий персонажей.
Интегральный элемент книги представляет собой и текст авторского Дневника, который писатель вел до и непосредственно во время работы над романом. Большие фрагменты Дневника предваряют и завершают романный текст, а также зачастую вкрапляются в него. По меткому замечанию С. Мусиенко, весь текст романа как бы «инкрустирован» [14] записями Дневника.
Польская исследовательница Т. Валас, говоря о поэтике «Месива», небезосновательно разграничивает понятия «Месиво-роман» («Miazga-powieść») и «Месиво-произведение» («Miazga-utwór»), подразумевая под первым только собственно сюжетную прозу, повествование о перипетиях героев, а под вторым — всю книгу, включая текст Дневника, «Интермедию», вставные тексты и пр. [15]
Схематически структуру романа можно представить следующим образом:
В польском языке слово miazga содержит и еще один семантический денотат, неизвестный русскому переводу и связанный со значением однокоренного глагола rozmiażdżyć, т. е. «раздробить, размозжить, раздавить» (вспомним объяснение, которое сам Анджеевский давал слову miazga). Это значение коннотирует (на уровне ассоциаций) с такими понятиями как: политическое давление, государственная машина, бюрократический аппарат. Таким образом, месиво — это еще и аллегория давления, провоцирующего подавленность — беспомощность властей и творческое бессилие художников.
По отношению к форме текста заглавие «Месиво» в первую очередь означает «мешанина». Вся поэтика романа базируется на смешении разнородных и неравнозначных элементов: стилей, художественных приемов, сюжетных линий, персонажей, временных пластов, форм и манер повествования.
Сам Анджеевский пишет в Дневнике: «Если у меня в результате различных изменений образовалась форма, в которую можно вместить все (курсив мой — А.С.), то почему я должен от этой благотворной свободы отказываться? Это должно быть месиво» (С.344).
Отличительной чертой этой новой повествовательной формы оказывается… бесформенность. Критик Томаш Бурек пишет о «Месиве»: «массивный, сознательно бесформенный, полиморфичный ком (курсив мой — А.С.) прозы» [10].
Роман в буквальном смысле то рассыпается на части, едва связанные между собой общими героями или сюжетными хитросплетениями, то обрастает множеством периферийных мотивов, деталей, фабульных наслоений, избыточных, казалось бы, даже для самого внимательного и искушенного читателя, превращаясь в громоздкую, трудно управляемую романную массу.
М.Домбровский пишет: «Открытая форма, отсутствие иерархии мотивов и проблем, произведение представляется скорее замыслом, нежели завершенным объектом» [11].
Такая незавершенность, негативно воспринятая рядом критиков, была программной для Анджеевского. В «Месиве» Анджеевский настаивает на «незаконченности», которая, по его словам, не равна «неисполненности» (С.480). Повествователь в Дневнике указывает: «…это незаконченность, вытекающая не из невозможности окончания, а из сознания, что по отношению к материи окончание произведения также есть и его незавершенность, так зачем притворяться?, во имя чего внушать и себе, и читателю, что, заканчивая произведение согласно с действующими правилами эстетики, я достигну большего, нежели представляя его в форме незавершенного месива?» (С.480).
В этом смысле «Месиво» есть не только и не столько месиво разных форм, сколько сознательный отказ от формы, антитеза к форме, или, как нередко характеризует текст критика, «антиформа», «антироман».
Писатель активно использует технику литературного коллажа, приемы нонселекции, «информационного шума», формального параллелизма, затрудняющие целостное восприятие текста и направленные на создание фрагментарного дискурса. Ян Блоньский замечает: «В этой особенной книге фрагмент на фрагменте сидит и фрагментом погоняет! Совсем как в изображаемой действительности, где ничего не доводится до конца, а если и доводится, то только в покалеченной, извращенной форме» [12].
Фрагментарность, специфически понятая незавершенность является неотъемлемой характеристикой многих произведений Анджеевского на протяжении всего его творчества: начиная с отрывков никогда не законченных дебютных романов «Ночь» («Noc») и «Сошествие с небес» («Zniebostąpinie»), через военный рассказ «Возвращение», предваренный авторским подзаголовком «фрагмент романа», вплоть до повестей 1980 годов. Показательно также, что с публикации фрагментов, т. е. «частей целого, которого не было"[13], начиналась история «Месива».
Анджеевский выделяет в своем романе три части:
- Приготовления (Przygotowania)
- Пролог (Prolog)
- Non Сonsummatum (Consummatum non est)
Между вторым и третьим разделами помещается часть, озаглавленная «Интермедия или польские биографии» («Intermedia czyli Polskie Życiorysy») — 87 расположенных в алфавитном порядке биографий персонажей.
Интегральный элемент книги представляет собой и текст авторского Дневника, который писатель вел до и непосредственно во время работы над романом. Большие фрагменты Дневника предваряют и завершают романный текст, а также зачастую вкрапляются в него. По меткому замечанию С. Мусиенко, весь текст романа как бы «инкрустирован» [14] записями Дневника.
Польская исследовательница Т. Валас, говоря о поэтике «Месива», небезосновательно разграничивает понятия «Месиво-роман» («Miazga-powieść») и «Месиво-произведение» («Miazga-utwór»), подразумевая под первым только собственно сюжетную прозу, повествование о перипетиях героев, а под вторым — всю книгу, включая текст Дневника, «Интермедию», вставные тексты и пр. [15]
Схематически структуру романа можно представить следующим образом:
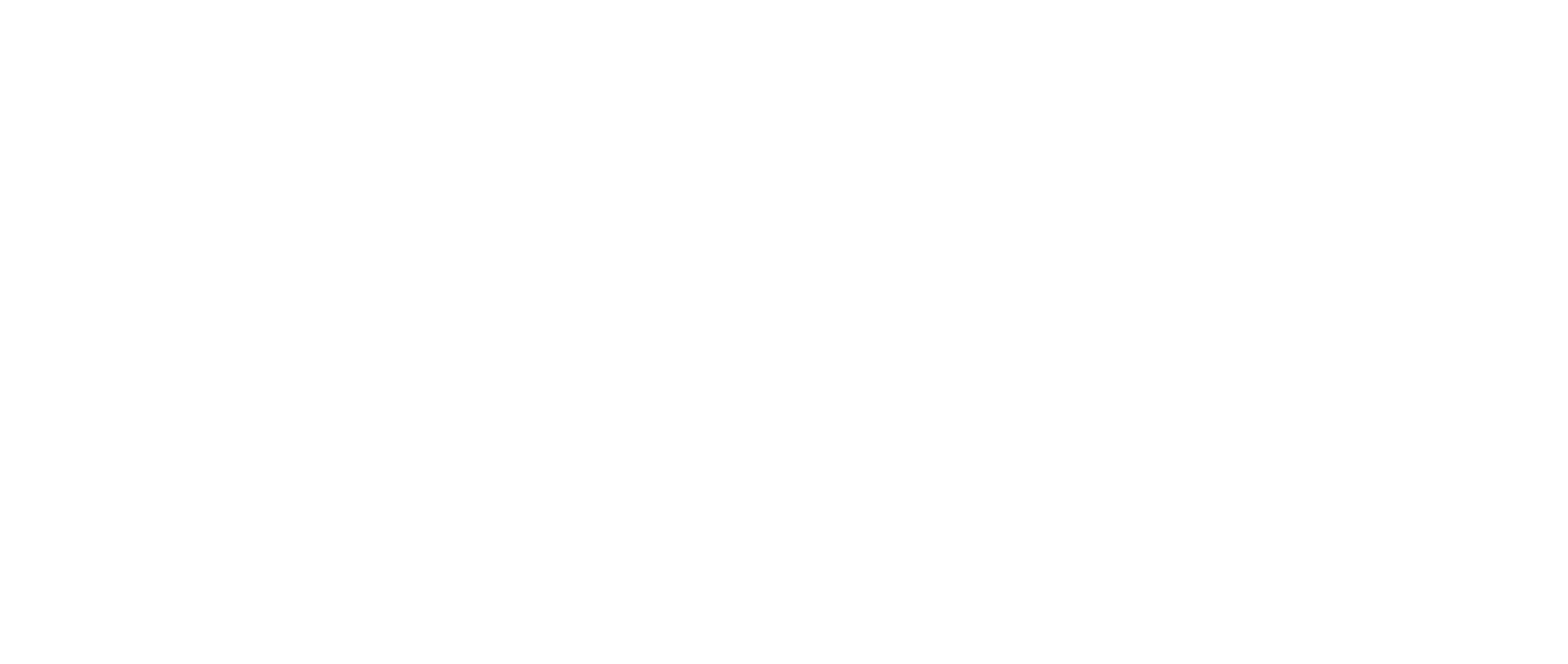
На схеме видно, что в некоторых частях происходит взаимопроникновение текста Дневника и собственно текста романа, границы между которыми размываются. Тереза Валас метко определяет такие места как «транзитные» [16].
Критик Т. Бурек, в свою очередь, остроумно характеризует композиционный принцип «Месива» как «преподносящий сюрпризы», а всю поэтику романа как «негативную», т.к. произведение «по ходу развития действия одновременно уничтожает собственные сюжетные положения и отступает от первоначальных посылов» [17].
Сюжетное время книги, занимающей без малого 800 страниц текста, охватывает всего 2 весенних дня 1969 года [18]. Анджеевский, как и раньше, старается придерживаться в «Месиве» принципов максимальной концентрации действия во времени и пространстве [19], подобно Джеймсу Джойсу в «Улиссе», насыщая романную ткань мельчайшими подробностями и деталями.
При ближайшем рассмотрении поэтика «Месива» имеет немало черт, сближающих роман Анджеевского с гениальным произведением Джойса [20]. Одна из таких черт — небывало тесная и подробная связь романа с местом его действия. Доподлинно известно, что Джойс во время работы над «Улиссом» пользовался справочником «Весь Дублин на 1904 год» и «перенес на свои страницы едва ли не все его содержание» [21]. Все, происходящее в романе Джойса, снабжается детальным указанием и описанием места действия, т. е. не только улиц, но и всех расположенных на них домов, лавок, вывесок, особенностей архитектуры. То же можно сказать о романе Анджеевского «Месиво», некоторые главы которого вполне могли бы служить путеводителем по Варшаве конца 1960-ых — начала 70-ых годов — ее улицам, площадям, гостиницам, ресторанчикам, автобусным маршрутам и т. п.
В Дневнике писатель впрямую цитирует справочник по Яблонне и окрестностям, придерживаясь почти доскональной точности в описании места действия большинства сцен. Антоний Либера вспоминает, что после публикации фрагментов «Месива» в «Твурчости» гулял с экземпляром журнала по Новому Мясту и «по-детски наивно проверял, насколько точно Анджеевский описал обратный путь Нагурского — задворками улицы Фрета» [22].
Сходство двух романов не ограничивается только «географическим» правдоподобием. Так же, как и у Джойса, в романе Анджеевского на первое место выходят проблемы техники письма, работа с языком и литературной формой. Оба писателя проблематизируют роль читателя и чтения, о чем подробнее будет сказано ниже.
Композиционным центром романа Анджеевского становится описание торжества по случаю бракосочетания двух варшавских актеров — «звезды» столичных театральных подмостков Конрада Келлера и дочери крупного партийного чиновника начинающей актрисы Моники Панек, «очень красивой и амбициозной, но без особых способностей» (С.565).
Описанию современной польской свадьбы посвящена вся первая часть романа — «Приготовления», действие которой разворачивается, в субботу 19 апреля 1969 года в загородном дворце в Яблонне под Варшавой. Рассказчик в деталях воспроизводит все события знаменательной апрельской ночи, несмотря на то, что уже из Дневника, предваряющего собственно текст романа, читателю известно, что обстоятельства в корне изменятся, молодожены поссорятся, и свадьба не состоится: «Трудно, но свадьбы не будет» (С.30).
Вторая часть романа — «Пролог» — повествует о событиях, разворачивающихся за день до свадьбы, т. е. 18 апреля 1969 года. Именно здесь на первый план выходит фигура писателя Адама Нагурского, которому в начале 1960-ых годов Анджеевский намеревался посвятить отдельную книгу, а в итоге сделал одним из многочисленных гостей на несостоявшейся свадьбе. Разнообразные перипетии пятничного вечера, ставшие сюжетом «Пролога», объясняют, наконец, читателю причину грядущей «свадебной катастрофы».
В третьей части романа, озаглавленной «Non Сonsummatum», т. е. «неисполнение», «несвершение», излагаются события субботы 19 апреля в том виде, в каком они имели место быть «на самом деле» — после известия об отмене свадьбы.
Критик Т. Бурек, в свою очередь, остроумно характеризует композиционный принцип «Месива» как «преподносящий сюрпризы», а всю поэтику романа как «негативную», т.к. произведение «по ходу развития действия одновременно уничтожает собственные сюжетные положения и отступает от первоначальных посылов» [17].
Сюжетное время книги, занимающей без малого 800 страниц текста, охватывает всего 2 весенних дня 1969 года [18]. Анджеевский, как и раньше, старается придерживаться в «Месиве» принципов максимальной концентрации действия во времени и пространстве [19], подобно Джеймсу Джойсу в «Улиссе», насыщая романную ткань мельчайшими подробностями и деталями.
При ближайшем рассмотрении поэтика «Месива» имеет немало черт, сближающих роман Анджеевского с гениальным произведением Джойса [20]. Одна из таких черт — небывало тесная и подробная связь романа с местом его действия. Доподлинно известно, что Джойс во время работы над «Улиссом» пользовался справочником «Весь Дублин на 1904 год» и «перенес на свои страницы едва ли не все его содержание» [21]. Все, происходящее в романе Джойса, снабжается детальным указанием и описанием места действия, т. е. не только улиц, но и всех расположенных на них домов, лавок, вывесок, особенностей архитектуры. То же можно сказать о романе Анджеевского «Месиво», некоторые главы которого вполне могли бы служить путеводителем по Варшаве конца 1960-ых — начала 70-ых годов — ее улицам, площадям, гостиницам, ресторанчикам, автобусным маршрутам и т. п.
В Дневнике писатель впрямую цитирует справочник по Яблонне и окрестностям, придерживаясь почти доскональной точности в описании места действия большинства сцен. Антоний Либера вспоминает, что после публикации фрагментов «Месива» в «Твурчости» гулял с экземпляром журнала по Новому Мясту и «по-детски наивно проверял, насколько точно Анджеевский описал обратный путь Нагурского — задворками улицы Фрета» [22].
Сходство двух романов не ограничивается только «географическим» правдоподобием. Так же, как и у Джойса, в романе Анджеевского на первое место выходят проблемы техники письма, работа с языком и литературной формой. Оба писателя проблематизируют роль читателя и чтения, о чем подробнее будет сказано ниже.
Композиционным центром романа Анджеевского становится описание торжества по случаю бракосочетания двух варшавских актеров — «звезды» столичных театральных подмостков Конрада Келлера и дочери крупного партийного чиновника начинающей актрисы Моники Панек, «очень красивой и амбициозной, но без особых способностей» (С.565).
Описанию современной польской свадьбы посвящена вся первая часть романа — «Приготовления», действие которой разворачивается, в субботу 19 апреля 1969 года в загородном дворце в Яблонне под Варшавой. Рассказчик в деталях воспроизводит все события знаменательной апрельской ночи, несмотря на то, что уже из Дневника, предваряющего собственно текст романа, читателю известно, что обстоятельства в корне изменятся, молодожены поссорятся, и свадьба не состоится: «Трудно, но свадьбы не будет» (С.30).
Вторая часть романа — «Пролог» — повествует о событиях, разворачивающихся за день до свадьбы, т. е. 18 апреля 1969 года. Именно здесь на первый план выходит фигура писателя Адама Нагурского, которому в начале 1960-ых годов Анджеевский намеревался посвятить отдельную книгу, а в итоге сделал одним из многочисленных гостей на несостоявшейся свадьбе. Разнообразные перипетии пятничного вечера, ставшие сюжетом «Пролога», объясняют, наконец, читателю причину грядущей «свадебной катастрофы».
В третьей части романа, озаглавленной «Non Сonsummatum», т. е. «неисполнение», «несвершение», излагаются события субботы 19 апреля в том виде, в каком они имели место быть «на самом деле» — после известия об отмене свадьбы.
структура собственно текста романа
1
приготовления
Суббота, 19 апреля 1969
Свадьба — какой она могла бы быть.
Свадьба — какой она могла бы быть.
2
пролог
Пятница, 18 апреля 1969
События, предшествовавшие свадьбе и ставшие причиной ее отмены.
События, предшествовавшие свадьбе и ставшие причиной ее отмены.
3
non consumatum
Суббота, 19 апреля 1969
События, предшествовавшие свадьбе и ставшие причиной ее отмены.
То, что произошло на самом деле (вместо свадьбы).
События, предшествовавшие свадьбе и ставшие причиной ее отмены.
То, что произошло на самом деле (вместо свадьбы).
Как видно из схемы, композиция «Месива» сохраняет рамочную структуру и вместе с тем имеет открытый, а по меткому выражению Т. Древновского, «открытый нараспашку» [23] характер.
В разорванной и децентрированной структуре романа сцена свадебного торжества является, по сути, единственным внутренним ядром, вокруг которого выстраивается, (а точнее сказать «замешивается» и нагромождается) вся остальная масса текста [24].
Выбор именно сцены свадьбы как отправной точки в формировании дальнейшего романного «месива» представляется неслучайным. Как справедливо отмечают многие критики романа, сцена свадьбы в «Месиве» имеет явно символический характер [25].
Начиная с рубежа ХIХ-ХХ веков, свадебный обряд является одним из наиболее распространенных и востребованных мотивов польской литературы, ставшим к концу ХХ столетия едва ли не «общим местом». Можно сказать, что в литературе формируется своеобразный архетип свадьбы — польское «здесь и сейчас».
Анализируя истоки этого мотива, важно помнить, что как таковое понятие «свадьба» включает в себя два основных смысловых денотата, лексически разведенных в польском языке:
§ свадьба как вступление в брак, заключение союза (ślub),
§ свадьба как пир, празднество, торжество (wesele).
По справедливому наблюдению В. А. Хорева, «свадьба, а также банкет, раут — традиционный для польской литературы художественный прием, который позволяет свести в одном месте в одно время представителей разных общественных слоев <…>, подслушать их мысли и разговоры, зафиксировать их позы и жесты» [26].
Свое начало этот «околосвадебный» мотив, по единодушному мнению критиков, берет от сцены «Бала у Сенатора» из III части романтической драмы Адама Мицкевича «Дзяды».
Впоследствии к мотиву многолюдного торжества (в том числе свадебного) в разное время обращались: В. Берент, Ю. Тувим, Т. Береза, Э. Брылль, В. Гомбрович, М. Домбровская, С. Мрожек, М. Новаковский и другие [27].
Наиболее значительный вклад в формировании традиции польских литературных свадеб, несомненно, принадлежит Станиславу Выспяньскому — одному из крупнейших драматургов эпохи «Молодой Польши» — и его драме «Свадьба» («Wesele»), запечатлевшей чаяния и разочарования не одного поколения поляков.
По мнению Т. Блажеевского, «живучесть» мотива свадьбы в польской литературе «в значительной степени связана с традиционным интервенционизмом литературы в не собственно литературные вопросы, с ее тесными связями со всем тем, что касается всего народа» [28].
Это наблюдение польского критика, отчасти объясняет, почему сцены свадебного пира в польской литературе неизменно строятся по принципу сопряжения сатирической, местами фривольной картинки с драматическим пафосом национальных и моральных проблем, нередко превращаясь в картины пира во время чумы. Тот же Т. Блажеевский пишет: «Так уж повелось: польские литературные свадьбы — это не праздник, не гротеск, это скорее драмы, в которых прошлое тесно переплетается с настоящим"[29]. Ему вторит Анна Насиловская, которая в своей статье «Польские свадьбы» отмечает: «Польский мотив свадьбы опирается на инверсию: вместо праздника — тоска и мрачный спиртной угар, вместо беззаботности — коллективные угрызения совести» [30].
Со времен Выспяньского польские свадьбы это еще и попытка (пусть даже через мистический сомнамбулический сон) анализа актуальных общественных и политических проблем, подведения неутешительных итогов, осознания взаимной вины и всеобщей беспомощности. Как пишет польская исследовательница А. Оконьская в своей монографии о Выспяньском: «„Свадьба“ была диагнозом, поставленным больному польскому обществу» [31].
Почти столетие спустя точно также критика определит основной посыл романа Ежи Анджеевского «Месиво».
В «Месиве» Анджеевский ни только не отрицает очевидных типологических связей с традицией, но даже более того — сознательно акцентирует роль драмы Выспяньского в формировании замысла своего романа [32].
В Дневнике писатель вспоминает эпизод, положивший начало концепции «Месива»: «в конце 1963 года Анджей Вайда поставил в Кракове „Свадьбу“ <…>, хотя театральными и кинематографическими возможностями „Свадьбы“ он интересовался еще задолго до этого. Мы разговаривали с ним на эту тему в кафе „Гвяздечка“ <…> и я помню, как во время одной из наших бесед я сказал Вайде, что не зачем браться за традиционную экранизацию драмы, когда мотив свадьбы можно перенести в современность. Почти точно помню, что в тогдашнем моем замысле невестой должна была стать девушка из коллектива „Мазовше“, а женихом — сначала молодой человек из аристократической семьи, а потом сын высокопоставленного чиновника» (C.26).
В разорванной и децентрированной структуре романа сцена свадебного торжества является, по сути, единственным внутренним ядром, вокруг которого выстраивается, (а точнее сказать «замешивается» и нагромождается) вся остальная масса текста [24].
Выбор именно сцены свадьбы как отправной точки в формировании дальнейшего романного «месива» представляется неслучайным. Как справедливо отмечают многие критики романа, сцена свадьбы в «Месиве» имеет явно символический характер [25].
Начиная с рубежа ХIХ-ХХ веков, свадебный обряд является одним из наиболее распространенных и востребованных мотивов польской литературы, ставшим к концу ХХ столетия едва ли не «общим местом». Можно сказать, что в литературе формируется своеобразный архетип свадьбы — польское «здесь и сейчас».
Анализируя истоки этого мотива, важно помнить, что как таковое понятие «свадьба» включает в себя два основных смысловых денотата, лексически разведенных в польском языке:
§ свадьба как вступление в брак, заключение союза (ślub),
§ свадьба как пир, празднество, торжество (wesele).
По справедливому наблюдению В. А. Хорева, «свадьба, а также банкет, раут — традиционный для польской литературы художественный прием, который позволяет свести в одном месте в одно время представителей разных общественных слоев <…>, подслушать их мысли и разговоры, зафиксировать их позы и жесты» [26].
Свое начало этот «околосвадебный» мотив, по единодушному мнению критиков, берет от сцены «Бала у Сенатора» из III части романтической драмы Адама Мицкевича «Дзяды».
Впоследствии к мотиву многолюдного торжества (в том числе свадебного) в разное время обращались: В. Берент, Ю. Тувим, Т. Береза, Э. Брылль, В. Гомбрович, М. Домбровская, С. Мрожек, М. Новаковский и другие [27].
Наиболее значительный вклад в формировании традиции польских литературных свадеб, несомненно, принадлежит Станиславу Выспяньскому — одному из крупнейших драматургов эпохи «Молодой Польши» — и его драме «Свадьба» («Wesele»), запечатлевшей чаяния и разочарования не одного поколения поляков.
По мнению Т. Блажеевского, «живучесть» мотива свадьбы в польской литературе «в значительной степени связана с традиционным интервенционизмом литературы в не собственно литературные вопросы, с ее тесными связями со всем тем, что касается всего народа» [28].
Это наблюдение польского критика, отчасти объясняет, почему сцены свадебного пира в польской литературе неизменно строятся по принципу сопряжения сатирической, местами фривольной картинки с драматическим пафосом национальных и моральных проблем, нередко превращаясь в картины пира во время чумы. Тот же Т. Блажеевский пишет: «Так уж повелось: польские литературные свадьбы — это не праздник, не гротеск, это скорее драмы, в которых прошлое тесно переплетается с настоящим"[29]. Ему вторит Анна Насиловская, которая в своей статье «Польские свадьбы» отмечает: «Польский мотив свадьбы опирается на инверсию: вместо праздника — тоска и мрачный спиртной угар, вместо беззаботности — коллективные угрызения совести» [30].
Со времен Выспяньского польские свадьбы это еще и попытка (пусть даже через мистический сомнамбулический сон) анализа актуальных общественных и политических проблем, подведения неутешительных итогов, осознания взаимной вины и всеобщей беспомощности. Как пишет польская исследовательница А. Оконьская в своей монографии о Выспяньском: «„Свадьба“ была диагнозом, поставленным больному польскому обществу» [31].
Почти столетие спустя точно также критика определит основной посыл романа Ежи Анджеевского «Месиво».
В «Месиве» Анджеевский ни только не отрицает очевидных типологических связей с традицией, но даже более того — сознательно акцентирует роль драмы Выспяньского в формировании замысла своего романа [32].
В Дневнике писатель вспоминает эпизод, положивший начало концепции «Месива»: «в конце 1963 года Анджей Вайда поставил в Кракове „Свадьбу“ <…>, хотя театральными и кинематографическими возможностями „Свадьбы“ он интересовался еще задолго до этого. Мы разговаривали с ним на эту тему в кафе „Гвяздечка“ <…> и я помню, как во время одной из наших бесед я сказал Вайде, что не зачем браться за традиционную экранизацию драмы, когда мотив свадьбы можно перенести в современность. Почти точно помню, что в тогдашнем моем замысле невестой должна была стать девушка из коллектива „Мазовше“, а женихом — сначала молодой человек из аристократической семьи, а потом сын высокопоставленного чиновника» (C.26).
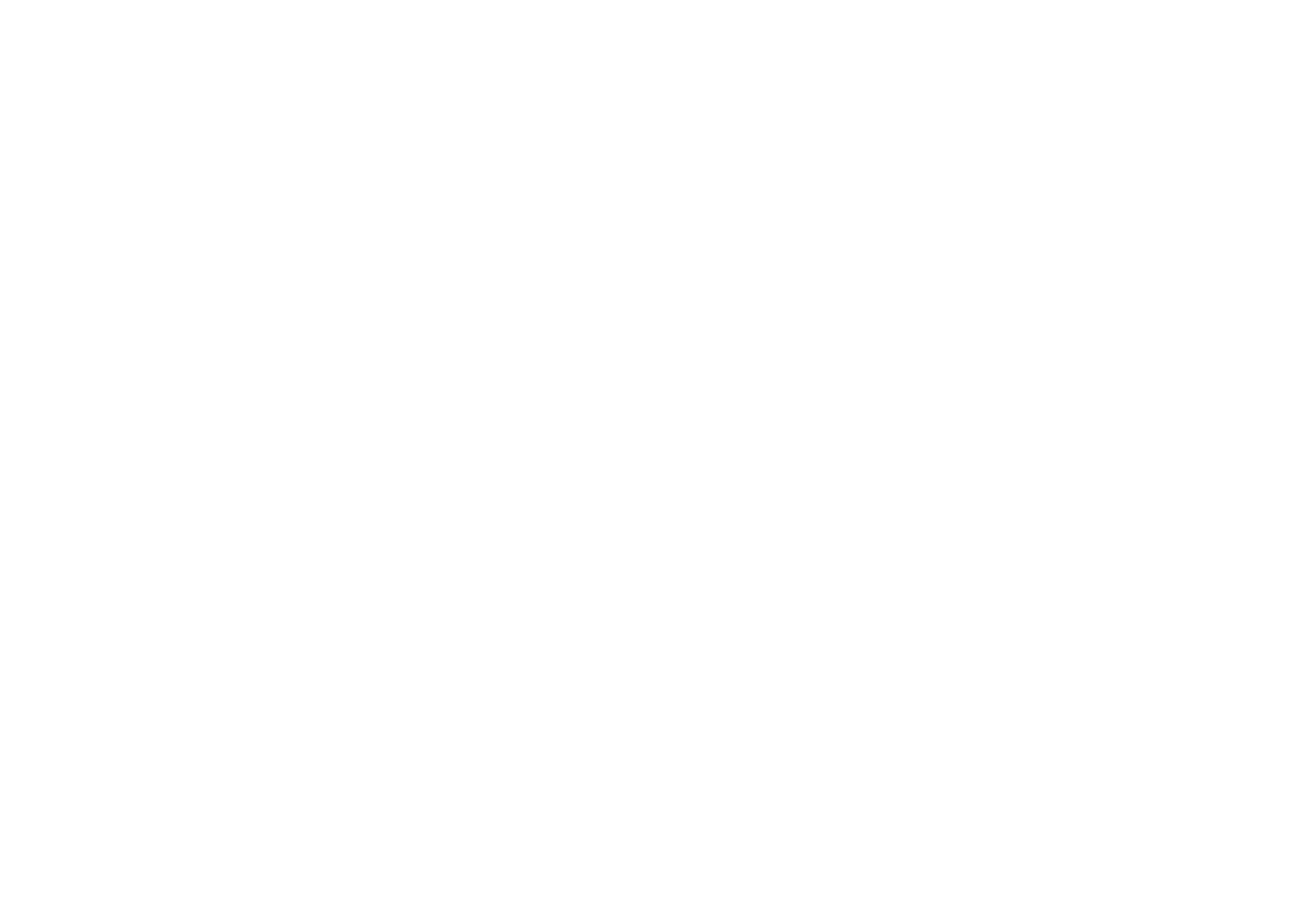
Афиша спектакля «Свадьба» по пьесе С. Выспяньского в Театре им. Л. Сольского в Тарнове, 1979
фото: culture.pl
фото: culture.pl
В своем последнем романе Анджеевский, с одной стороны, в полной мере продолжает и развивает традицию польских литературных свадеб, а с другой — преодолевает ее через переосмысление. Как пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «Анджеевский вступает в диалог с традицией, неоднократно используя пастиш[33] известных мотивов» [34].
Намеренное сопоставление трактовки темы свадьбы в романе Анджеевского с ее решением в произведениях предшественников позволяет писателю выявить особенности непосредственно современной польской свадьбы. Первая и главная среди этих особенностей заявлена уже в Дневнике — «Трудно, но свадьбы не будет» (C.30). Современная польская свадьба — это свадьба, которая не состоится.
«Месиво» претендует на то, чтобы стать эффектным point final в истории существования польского мифа свадьбы. Не только логика, не только смысл или дальнейшие перспективы, но сама реальность свадебного союза в последнем романе Анджеевского оказывается под вопросом.
Писатель в деталях и мельчайших (зачастую сверх меры) подробностях воспроизводит картину свадьбы, которой не было (или правильнее сказать, которой не будет), разграничивая, таким образом, в рамках романной онтологии повествовательный порядок есть и порядок может или могло бы быть.
Первому порядку в «Месиве» соответствует настоящее или прошедшее время (традиционное эпическое praesens historicum), второму — сослагательное наклонение, будущее несовершенное время и разнообразные синтаксические конструкции, образованные при помощи модализаторов: возможно, скорее всего, не исключено, наверняка и т. п.
«…дети мои … — скажет председательша, а если не дословно так, то что-то в этом роде…» (C.72);
«…и не исключено, что в этот момент ему придет в голову мысль уж совершенно нелепая…» (C.76);
«…в этот момент он наверняка рассмеется …» (Miazga, с.64);
«…все бы было иначе, когда бы было тепло, весна, сирень…» (C.105);
«…снова, наверное, наступит момент тишины. Но, если бы случилось, (а почему, собственно, это не должно случиться?), что…» (C.110);
«…очень вероятно, что она ответит словами мужа:…» (C.114) и пр.
В результате значительная часть (приблизительно ¼) текста романа разыгрывается в пространстве романной антиреальности, в мире виртуальном, противопоставленном фикциональному миру фактическому или актуальному.
В «Месиве» Анджеевский писатель прибегает к семантике «возможных миров», разработанной Лейбницем и переосмысленной новейшей прозой [35]. Размышляя о форме своего романа, писатель цитирует в Дневнике роман «Улисс» Джеймса Джойса: «возможные возможности возможного» (C.323).
Намеренное сопоставление трактовки темы свадьбы в романе Анджеевского с ее решением в произведениях предшественников позволяет писателю выявить особенности непосредственно современной польской свадьбы. Первая и главная среди этих особенностей заявлена уже в Дневнике — «Трудно, но свадьбы не будет» (C.30). Современная польская свадьба — это свадьба, которая не состоится.
«Месиво» претендует на то, чтобы стать эффектным point final в истории существования польского мифа свадьбы. Не только логика, не только смысл или дальнейшие перспективы, но сама реальность свадебного союза в последнем романе Анджеевского оказывается под вопросом.
Писатель в деталях и мельчайших (зачастую сверх меры) подробностях воспроизводит картину свадьбы, которой не было (или правильнее сказать, которой не будет), разграничивая, таким образом, в рамках романной онтологии повествовательный порядок есть и порядок может или могло бы быть.
Первому порядку в «Месиве» соответствует настоящее или прошедшее время (традиционное эпическое praesens historicum), второму — сослагательное наклонение, будущее несовершенное время и разнообразные синтаксические конструкции, образованные при помощи модализаторов: возможно, скорее всего, не исключено, наверняка и т. п.
«…дети мои … — скажет председательша, а если не дословно так, то что-то в этом роде…» (C.72);
«…и не исключено, что в этот момент ему придет в голову мысль уж совершенно нелепая…» (C.76);
«…в этот момент он наверняка рассмеется …» (Miazga, с.64);
«…все бы было иначе, когда бы было тепло, весна, сирень…» (C.105);
«…снова, наверное, наступит момент тишины. Но, если бы случилось, (а почему, собственно, это не должно случиться?), что…» (C.110);
«…очень вероятно, что она ответит словами мужа:…» (C.114) и пр.
В результате значительная часть (приблизительно ¼) текста романа разыгрывается в пространстве романной антиреальности, в мире виртуальном, противопоставленном фикциональному миру фактическому или актуальному.
В «Месиве» Анджеевский писатель прибегает к семантике «возможных миров», разработанной Лейбницем и переосмысленной новейшей прозой [35]. Размышляя о форме своего романа, писатель цитирует в Дневнике роман «Улисс» Джеймса Джойса: «возможные возможности возможного» (C.323).
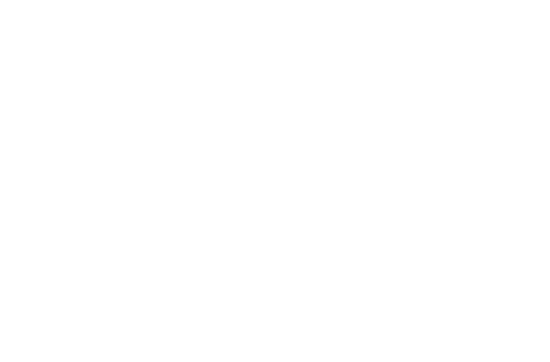
Фрагмент обложки киносценария «Возможные возможности возможного»
по роману «Месиво» (автор сценария: А. Сломяновский, 1972)
источник: pleograf.pl
по роману «Месиво» (автор сценария: А. Сломяновский, 1972)
источник: pleograf.pl
Руководствуясь этим принципом, Анджеевский решает одновременно несколько художественных задач разного порядка:
1
Повествование в сослагательном наклонении и будущем несовершенном времени, подрывающее классические каноны формирования художественного текста, усиливает ощущение нестабильности, замешательства и хаоса, к которому стремился писатель, создавая свой роман. Анджеевский идет по пути создания так называемой «аддитивной фабулы», целиком построенной на принципах временного симультанизма (мы писали об это подробнее в Главе 4 применительно к микророману «Врата рая») и формального параллелизма (т.е. нагромождения мотивов, персонажей и эпизодов, необязательно связанных между собой функционально).
Техника аддиции, (т.е. добавления) позволяет практически до бесконечности множить зачастую никак не взаимосвязанные и нигде больше не пересекающиеся между собой сюжетные линии; добавлять персонажей, силой авторского произвола на мгновение выхваченных из толпы, изображенных в калейдоскопическом мелькании, нередко «не к месту», не с начала и не до конца; вставлять в текст многочисленные интроспекции и ретроспекции героев, нарушающее связанное развитие действия. Как пишет польская исследовательница Северина Вислоух, «симультанические композиции, благодаря аддитивной фабуле могут охватить все (сравни с намерением Анджеевского создать форму, в которую „можно вместить все“ — А.С.), показать не только отдельных людей с их судьбами, но и целое общество, народы»; и дальше: «отказ от причинно-следственных связей между мотивами, характерный для композиции, основанной на принципе параллелизма, вызывает ощущение хаоса, одиночества и беззащитности личности в современном мире, усиливает пессимистическое звучание всего текста"[36].
Техника аддиции, (т.е. добавления) позволяет практически до бесконечности множить зачастую никак не взаимосвязанные и нигде больше не пересекающиеся между собой сюжетные линии; добавлять персонажей, силой авторского произвола на мгновение выхваченных из толпы, изображенных в калейдоскопическом мелькании, нередко «не к месту», не с начала и не до конца; вставлять в текст многочисленные интроспекции и ретроспекции героев, нарушающее связанное развитие действия. Как пишет польская исследовательница Северина Вислоух, «симультанические композиции, благодаря аддитивной фабуле могут охватить все (сравни с намерением Анджеевского создать форму, в которую „можно вместить все“ — А.С.), показать не только отдельных людей с их судьбами, но и целое общество, народы»; и дальше: «отказ от причинно-следственных связей между мотивами, характерный для композиции, основанной на принципе параллелизма, вызывает ощущение хаоса, одиночества и беззащитности личности в современном мире, усиливает пессимистическое звучание всего текста"[36].
2
Введение модальной рамки «быть может» является в «Месиве» формой авторской рефлексии над романом и его познавательными возможностями. Анджеевский отказывается от классических принципов эпической прозы: изъявительного наклонения, прошедшего времени и линейности повествования, которые традиционно стабилизируют фикцию (через установление определенного порядка вещей в рамках конкретной романной онтологии) и грамматически усиливают иллюзию реальности изображаемого. Таким образом, писатель как бы переносит центр тяжести произведения с конкретного и неприкосновенного мира фикции на сам механизм работы воображения, обнажает обилие возможностей и акт выбора одной из них. Как пишет А. Сынорадкая-Демадр, «частица «бы» подчеркивает неуверенность рассказчика, его нерешительность по отношению к разнообразным возможностям развития фабулы, а одновременно с этим и неограниченную власть над изображаемым миром» [37].
Опираясь на семантику «возможных миров», Анджеевский реализует в «Месиве» концепцию «открытого произведения"[38]. т. е. такого, которое «не конструирует закрытый, самодостаточный в себе мир вымысла, а ставит перед читателем вопросы о своем смысле, предлагая или даже навязывая ему бесчисленную череду истолкований и категорически отвергая возможность однозначного своего понимания» [39].
Опираясь на семантику «возможных миров», Анджеевский реализует в «Месиве» концепцию «открытого произведения"[38]. т. е. такого, которое «не конструирует закрытый, самодостаточный в себе мир вымысла, а ставит перед читателем вопросы о своем смысле, предлагая или даже навязывая ему бесчисленную череду истолкований и категорически отвергая возможность однозначного своего понимания» [39].
3
Выстраивая мир виртуальный, альтернативный актуальному романному миру, писатель вводит в повествование установку на смысловую игру [40], сознательно интригует и провоцирует читателя, создавая вокруг заведомо ирреального события «эффект реальности» (термин Р. Барта). Сцена свадьбы в «Месиве» начинается с многочисленных отсылок к фактам и документальным свидетельствам. Повествователь цитирует текст путеводителя по Яблонне (дворцу, городу и окрестностям), где должен состояться торжественный свадебный прием, приводит аутентичный текст прогноза погоды на день свадьбы за текущий и прошлый год, подробно останавливается на обстоятельствах выбора даты приёма, по ряду причин перенесенного с 15 мая 1969 года на более ранний срок — 19 апреля и пр. По наблюдению Ролана Барта, «когда вымышленное повествование апеллирует к факту, это делается с совершенно определенной целью: чтобы указать на подлинность данной истории» [41] и далее: «речь идет о чистом эффекте реальности (курсив мой — А.С.): указание точного числа подчеркивает истинность случившегося; точное считается реальным» [42].
Создание «эффекта реальности» вокруг события, относительно которого a priori известно, что оно не состоится, порождает заведомое противоречие: писатель явно манипулирует смыслами, умножая количество возможных прочтений и интерпретаций, в том числе путем последующего снятия ранее заявленных противоречий. Позволим себе сослаться на парадоксальную мысль выдающегося итальянского литератора и литературоведа Умберто Эко, который в одном из своих романов пишет: «Условно-противительные предложения с ирреальной посылкой всегда истинны, благодаря тому, что ирреальна предпосылка» [43].
Так и есть: скандальный свадебный прием, не состоявшийся в романе Анджеевского, в реальной действительности состоялся и не раз. Неслучайно В. Британишский подмечает: «Если Анджеевский эту свадьбу придумал, то придумал в духе эпохи: читатели, конечно, вспомнят свадьбу, которую отгрохал своей дочери один вельможа тех лет в Таврическом дворце» [44].
Создание «эффекта реальности» вокруг события, относительно которого a priori известно, что оно не состоится, порождает заведомое противоречие: писатель явно манипулирует смыслами, умножая количество возможных прочтений и интерпретаций, в том числе путем последующего снятия ранее заявленных противоречий. Позволим себе сослаться на парадоксальную мысль выдающегося итальянского литератора и литературоведа Умберто Эко, который в одном из своих романов пишет: «Условно-противительные предложения с ирреальной посылкой всегда истинны, благодаря тому, что ирреальна предпосылка» [43].
Так и есть: скандальный свадебный прием, не состоявшийся в романе Анджеевского, в реальной действительности состоялся и не раз. Неслучайно В. Британишский подмечает: «Если Анджеевский эту свадьбу придумал, то придумал в духе эпохи: читатели, конечно, вспомнят свадьбу, которую отгрохал своей дочери один вельможа тех лет в Таврическом дворце» [44].
Свадебное торжество в «Месиве» разыгрывается в не менее обязывающих декорациях. Многочисленные гости собираются в Яблонне — родовом поместье князей Потоцких и Понятовских. Шикарные апартаменты были выбраны для свадебного торжества по настоянию матери невесты — Зофьи Панек, которая таким нехитрым путем намеревалась решить сразу две задачи: удовлетворить нуворишские амбиции семьи и воскресить воспоминания своей молодости (когда-то будущая жена директора ПАП [45] Леопольда Панека крутила роман с графом Сулемирским, от которого у нее родился внебрачный ребенок — сводный брат невесты — Ксаверий Панек).
Рассуждая о столь претенциозном выборе места для свадебного банкета, жених Конрад Келлер вынужден оправдываться:
«… — Где найдешь в Варшаве квартиру с метражом, способным вместить стольких людей?
— Правильно, психиатрические клиники и тюрьмы уже переполнены. Посмотри только! Да если бы тела этих людей были устроены в соответствии с их жизнью, желаниями, мыслями, то мы бы увидели чудищ, ведьм и страшилищ, во сто крат более изощренных и отвратительных, чем у Босха и Гойи. Нас с тобой не исключая «(C.144) — парирует главный «резонер» романа Ксаверий Панек.
Анна Сынорадзкая-Демадр отмечает: «В бывшем поместье князей Потоцких и Понятовских, а ныне государственной собственности, никто из присутствующих не может чувствовать себя как дома, там нет настоящего хозяина. Дворец производит впечатление искусственной декорации» [46].
В русле лучших традиций польских литературных свадеб Анджеевский воссоздает парадоксальную и одновременно беспощадно реалистичную картину очередного пира во время чумы — «праздника», на котором всякий, опасаясь доносов и сплетен, чувствует себя несвободным и незащищенным, огромной толпы, в которой каждый потерян и одинок.
«…Чужой страшный мир, чужие страшные люди, перед которыми, чтобы совсем не потерять лица, нужно прятать лицо за масками и гримасами, паршивые забегаловки, водка, водка, похмелье, бормотанье и визги, глупые, вредные выходки, дебильные приятели, свиные рыла редакторов,…, толстые задницы, протирающие сиденья мерседесов и волг, завистливые графоманы, <…>., старикашки, продажные титулованные шлюхи, всегда готовые услужливо подставить зад, дерьмо, дерьмо, куча дерьма…» (С. 130) — восклицает про себя молодой поэт Марек Куран, оглядываясь на окружающую его толпу приглашенных.
Карикатурный контраст обстановки аристократических салонов бывшей усадьбы польских князей и заполонившей их современной «аристократии» — партийной верхушки и варшавской богемы — многократно усиливает сатирический эффект всей сцены. «Обезьяний цирк!» (С.104) — язвительно характеризует собравшихся Ксаверий Панек.
В антураже мраморных колонн, натертых до блеска паркетных полов и позолоченных канделябров амбиции, претензии и конфликты современной польской «знати» выглядят особенно мелочно и малозначительно. Но писателя беспокоит не только это. Страшнее другое: влиятельные чиновники, пришедшие выразить свое почтение отцу невесты, и талантливые художники, собравшиеся по приглашению знаменитого жениха, не только не демонстрируют способности договориться между собой, но, как оказывается, даже не предпринимают попыток установления диалога. Вынужденные застольные разговоры сводятся к взаимным упрекам или банальному обмену любезностями.
Единодушия нет и среди представителей одного лагеря. Если чиновники «повязаны» между собой хотя бы страхом и сознанием общих интересов, то в среде варшавской богемы разобщенность становится все заметнее: лояльные к власти художники сторонятся опальных «ревизионистов», нигилистически настроенная молодежь не понимает «стариков».
Разделение на «молодых» и «старых», далеко не праздное для самого Анджеевского, остро осознававшего свой возраст, выражается уже в том, как распределилось между гостями пространство дворца. Заслуженные «старики» выясняют отношения с властями в просторных банкетных залах, в то время как в баре, расположившемся в бывших винных погребах, в клубах табачного дыма под зажигательные ритмы современных шлягеров происходит «братание» молодых поэтов с сынками партийных боссов и случайными людьми из обслуги.
«Мы как общество представляем собой нечто вроде скалы, которой внезапно не хватило связующего вещества, такой, знаешь ли, горной спайки, потому-то мы и становимся постоянно всё хуже…» (C.108) — заключает Ксаверий Панек.
Именно в создании такой общественной «спайки», писателю хотелось бы видеть основную функцию творческой интеллигенции. Анджеевский указывает на искусство (и на культуру в целом) как на единственную сферу, способную сохранять и продуцировать нравственные ценности, необходимые для сопротивления общественному «месиву» и тоталитаризму.
«Не знаю даже, отдаешь ли ты себе отчет в том, что, каждый раз выходя на сцену, появляясь на телевидении или киноэкране, ты тотчас начинаешь создавать между зрителями это самое исчезающее связующее вещество. Бездарные власти и диктаторы абсолютно правы в своем подозрительном отношении к искусству» (C.149) — продолжает Ксаверий Панек в разговоре с Конрадом Келлером.
Проблема артистической элиты в «Месиве», как и в романе «Идет, скачет по горам», выходит за рамки конфликта творческая личность-обыватель, характерной для произведений младопольской литературы (достаточно вспомнить романы Вацлава Берента и Станислава Пшибышевского). В «Месиве» это в первую очередь проблема осознания художником своей ответственности, своего высокого предназначения, которое он утрачивает, погрязая в интригах, впутываясь во внутренние конфликты и склоки, втягиваясь в игры с властями.
Эта проблема в равной степени правомерна для всех представителей художественной и научной среды в романе, вне зависимости от их социального статуса, возраста и степени дарования.
В.Британишский пишет: «Никому нет поблажки от автора. Ни людям, которые когда-то, в годы оккупации, подполья, в партизанском отряде были честными и мужественными, а теперь переродились. Ни новоявленному оппозиционеру, экс-ассистенту кафедры философии Варшавского университета. Ни писателю Нагурскому, который присутствует в романе почти как образ автора, но который показан во всех его слабостях и пороках и голосу которого, среди других голосов книги, во всем ее многоголосии, нет привилегий"[47].
Рассуждая о столь претенциозном выборе места для свадебного банкета, жених Конрад Келлер вынужден оправдываться:
«… — Где найдешь в Варшаве квартиру с метражом, способным вместить стольких людей?
— Правильно, психиатрические клиники и тюрьмы уже переполнены. Посмотри только! Да если бы тела этих людей были устроены в соответствии с их жизнью, желаниями, мыслями, то мы бы увидели чудищ, ведьм и страшилищ, во сто крат более изощренных и отвратительных, чем у Босха и Гойи. Нас с тобой не исключая «(C.144) — парирует главный «резонер» романа Ксаверий Панек.
Анна Сынорадзкая-Демадр отмечает: «В бывшем поместье князей Потоцких и Понятовских, а ныне государственной собственности, никто из присутствующих не может чувствовать себя как дома, там нет настоящего хозяина. Дворец производит впечатление искусственной декорации» [46].
В русле лучших традиций польских литературных свадеб Анджеевский воссоздает парадоксальную и одновременно беспощадно реалистичную картину очередного пира во время чумы — «праздника», на котором всякий, опасаясь доносов и сплетен, чувствует себя несвободным и незащищенным, огромной толпы, в которой каждый потерян и одинок.
«…Чужой страшный мир, чужие страшные люди, перед которыми, чтобы совсем не потерять лица, нужно прятать лицо за масками и гримасами, паршивые забегаловки, водка, водка, похмелье, бормотанье и визги, глупые, вредные выходки, дебильные приятели, свиные рыла редакторов,…, толстые задницы, протирающие сиденья мерседесов и волг, завистливые графоманы, <…>., старикашки, продажные титулованные шлюхи, всегда готовые услужливо подставить зад, дерьмо, дерьмо, куча дерьма…» (С. 130) — восклицает про себя молодой поэт Марек Куран, оглядываясь на окружающую его толпу приглашенных.
Карикатурный контраст обстановки аристократических салонов бывшей усадьбы польских князей и заполонившей их современной «аристократии» — партийной верхушки и варшавской богемы — многократно усиливает сатирический эффект всей сцены. «Обезьяний цирк!» (С.104) — язвительно характеризует собравшихся Ксаверий Панек.
В антураже мраморных колонн, натертых до блеска паркетных полов и позолоченных канделябров амбиции, претензии и конфликты современной польской «знати» выглядят особенно мелочно и малозначительно. Но писателя беспокоит не только это. Страшнее другое: влиятельные чиновники, пришедшие выразить свое почтение отцу невесты, и талантливые художники, собравшиеся по приглашению знаменитого жениха, не только не демонстрируют способности договориться между собой, но, как оказывается, даже не предпринимают попыток установления диалога. Вынужденные застольные разговоры сводятся к взаимным упрекам или банальному обмену любезностями.
Единодушия нет и среди представителей одного лагеря. Если чиновники «повязаны» между собой хотя бы страхом и сознанием общих интересов, то в среде варшавской богемы разобщенность становится все заметнее: лояльные к власти художники сторонятся опальных «ревизионистов», нигилистически настроенная молодежь не понимает «стариков».
Разделение на «молодых» и «старых», далеко не праздное для самого Анджеевского, остро осознававшего свой возраст, выражается уже в том, как распределилось между гостями пространство дворца. Заслуженные «старики» выясняют отношения с властями в просторных банкетных залах, в то время как в баре, расположившемся в бывших винных погребах, в клубах табачного дыма под зажигательные ритмы современных шлягеров происходит «братание» молодых поэтов с сынками партийных боссов и случайными людьми из обслуги.
«Мы как общество представляем собой нечто вроде скалы, которой внезапно не хватило связующего вещества, такой, знаешь ли, горной спайки, потому-то мы и становимся постоянно всё хуже…» (C.108) — заключает Ксаверий Панек.
Именно в создании такой общественной «спайки», писателю хотелось бы видеть основную функцию творческой интеллигенции. Анджеевский указывает на искусство (и на культуру в целом) как на единственную сферу, способную сохранять и продуцировать нравственные ценности, необходимые для сопротивления общественному «месиву» и тоталитаризму.
«Не знаю даже, отдаешь ли ты себе отчет в том, что, каждый раз выходя на сцену, появляясь на телевидении или киноэкране, ты тотчас начинаешь создавать между зрителями это самое исчезающее связующее вещество. Бездарные власти и диктаторы абсолютно правы в своем подозрительном отношении к искусству» (C.149) — продолжает Ксаверий Панек в разговоре с Конрадом Келлером.
Проблема артистической элиты в «Месиве», как и в романе «Идет, скачет по горам», выходит за рамки конфликта творческая личность-обыватель, характерной для произведений младопольской литературы (достаточно вспомнить романы Вацлава Берента и Станислава Пшибышевского). В «Месиве» это в первую очередь проблема осознания художником своей ответственности, своего высокого предназначения, которое он утрачивает, погрязая в интригах, впутываясь во внутренние конфликты и склоки, втягиваясь в игры с властями.
Эта проблема в равной степени правомерна для всех представителей художественной и научной среды в романе, вне зависимости от их социального статуса, возраста и степени дарования.
В.Британишский пишет: «Никому нет поблажки от автора. Ни людям, которые когда-то, в годы оккупации, подполья, в партизанском отряде были честными и мужественными, а теперь переродились. Ни новоявленному оппозиционеру, экс-ассистенту кафедры философии Варшавского университета. Ни писателю Нагурскому, который присутствует в романе почти как образ автора, но который показан во всех его слабостях и пороках и голосу которого, среди других голосов книги, во всем ее многоголосии, нет привилегий"[47].
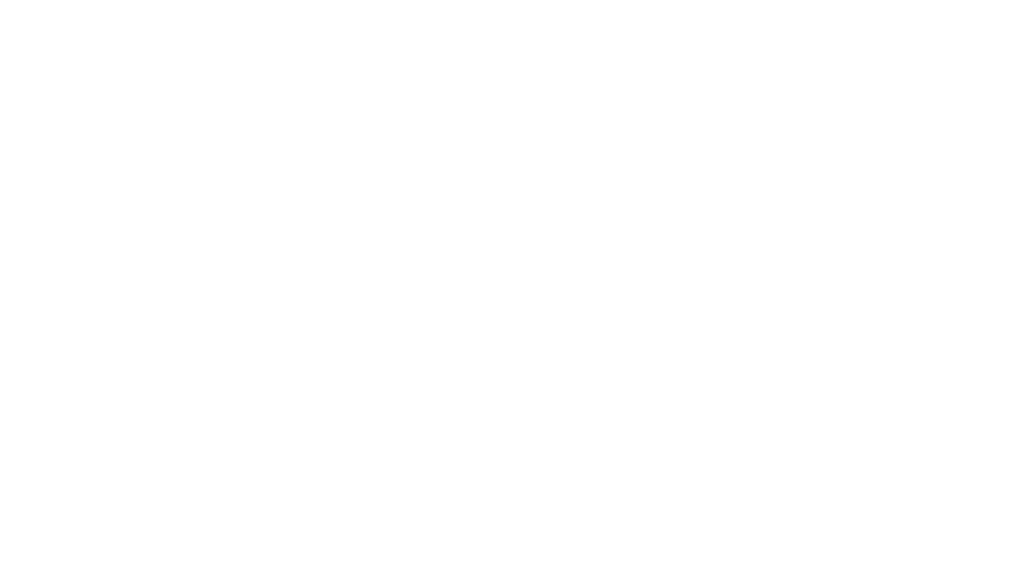
Дворцово-парковый комплекс в Яблонне под Варшавой
фото: mapio.net
фото: mapio.net
Образ Нагурского традиционно (и вполне обоснованно) рассматривается как alter ego или porte-parole самого Анджеевского. Писатель вложил в своего героя немало личного, можно сказать, интимного [48]. Т. Блажеевский замечает: «Адам Нагурский был очерчен так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, что это alter ego автора „Месива“. Таким образом, герой романа обрастает дополнительными значениями» [49].
Нагурский «унаследовал» от Анджеевского узнаваемые внешние черты (худая, высокая фигура), год и место рождения, дату литературного дебюта и ряд других эпизодов биографии (конспиративная деятельность во время войны и оккупации, политическая карьера в первые послевоенные годы и др.).
Анджеевский приписывает Нагурскому ряд собственных текстов, издававшихся в разное время отдельно от «Месива» (рассказы «Много песка и мало», «Молитва», эссе «Месса о поэте»). В других книгах, составляющих по сюжету творчество Нагурского, также угадываются аллюзии на художественное наследие самого Анджеевского: роман Нагурского «Вдохновение мира» («Natchnienie świata») о судьбе молодого аковца не может не напомнить читателю «Пепел и алмаз», а романы «Каролинка» («Karolinka») и «Желания» («Pragnienia»), приписанные Нагурскому, повторяют названия незаконченных книг Анджеевского.
Много общего можно найти и в жизненных обстоятельствах автора и его героя: как и у Анджеевского, новые произведения Нагурского не издаются, молодой читатель к нему безразличен, а власти, напротив, излишне внимательны и подозрительны.
Несомненный автобиографический отпечаток несет на себе и детально описанная личная жизнь Нагурского. В импровизированной «Лекции Адама Нагурского», посвященной воспоминаниям детства и юности героя, есть намек на гомосексуальные наклонности Адама, которые, как известно, разделял и сам Анджеевский.
Автобиографический характер имеет и история взаимоотношений стареющего писателя с юной авантюристкой Моникой Рихтер, «известной как Nike, а в некоторых кругах Варшавы как Пинг-понг» (С.403). В Дневнике Анджеевский пишет: «Во всю эту историю вмешался элемент неожиданный и банальный: когда шесть лет назад у меня начал формироваться этот любовный мотив — сфера и климат моих собственных переживаний совпадали с ощущениями Нагурского <…> сегодня мы находимся на совершенно разных этапах; для меня все это давно уже позади, я смотрю на все это с остывшей и безразличной перспективы весны семидесятого года, он — из меня и мной созданный — все еще зачарован и остается в моем шестьдесят четвертом — шестьдесят пятом…» (С. 427) [50].
Но основное, что объединяет автора и героя «Месива», это мучительный поиск ответов на вопросы о роли писателя в современном мире, о сущности творчества и искусства. В романе, в котором «проза о прозе» составляет едва ли не большую часть текста, эти вопросы занимают особое место.
Анджеевский записывает в Дневнике: «Я не пишу, чтобы упорядочить жизнь, гладко объяснить ее, напротив! я пишу, чтобы усложнить жизнь, показать ее более трудной и тяжелой, чем кажется людям. Только трудный мир вынуждает к сопротивлению!» (C.40). Автор видит задачу писателя, как и любого художника, в том, чтобы задавать вопросы, заставлять задумываться над ними, ставить проблемы, а не предлагать готовые решения и ответы. «…Я не могу ответить на многие вопросы. Но должен ли я уметь отвечать на них? Я всего лишь писатель. Писатель рассказывает и задает вопросы. Ничего больше» (C.504) — заключает Анджеевский.
В свою очередь Нагурский вступает в беседу с Целиной Рашевской:
«…- Вы — писатель, вы наверняка сумеете понять, что могла тогда чувствовать глупенькая, наивная девочка.
— Я понимаю. Но вы на самом деле думаете, что писатель должен понимать больше, нежели остальные?
— А как же! Если бы он не понимал больше, то зачем бы тогда писал?
— Может быть, за тем, чтобы сказать, что не понимает?" (С.87).
Тем не менее, образ Нагурского далек от идеализации[51], так же, как не идеализирован и образ самого Анджеевского как автора и героя Дневника. (Критик Т. Лубеньский, например, замечает, что в Дневнике «писатель почти совершает литературное самоубийство: он описывает месиво на собственном примере и за свой счет» [52]).
Характеристики Нагурского, как и большинства героев романа, противоречивы и колеблются от иступленного восхищения его творчеством, какое выражает в своем эссе «Не отступает тот, кто связан со звездой» молодой поклонник писателя Антек Рашевский, до невероятной самокомпрометации, эпатирующего «душевного стриптиза» — в «Лекции Адама Нагурского».
Анджеевский вынужден признать, что Нагурский не только не противостоит окружающему его «месиву» — общественному и политическому, а, напротив, все больше «смешивается» с толпой, адаптируется к ненормальности общества и его пошатнувшейся морали. Основная причина его падения как моралиста и как художника — унизительный роман с девушкой «с двусмысленным именем Nike» (Miazga, 52).
Мотив «рабской любви» — один из ключевых и наиболее ярких не только в «Месиве», но и во всем творчестве Анджеевского. На фабульном уровне он может реализовываться несколькими способами:
Эротизм как таковой (необузданная и непреодолимая страсть, неудовлетворенность, ревность, затаенные, «подсознательные» желания) не просто находится в центре художественного внимания Анджеевского, но нередко становится основной движущей силой его сюжетов. Так было во «Вратах рая», буквально перенасыщенных эротическими подтекстами, так было в романе «Идет, скачет по горам», центральный персонаж которого, восьмидесятилетний художник Ортиз имеет немало общего с Адамом Нагурским.
Так же, как и Ортиз, стареющий Нагурский попадает под власть очаровательной «нимфетки» и страдает от мучительной, почти параноидальной страсти к ней. «В народных плачах и гуманистическом беспокойстве кроется меньше бесстыдства, чем в признании, что я безнадежно влюблен в красивую шлюху и из шлюхи сотворил божество, возведя ее на алтарь…» (С.430) — признается сам себе Нагурский.
Но в отличие от Ортиса, в страсти к молоденькой фотомодели Франсуазе обретающего утраченное вдохновение, герой «Месива» оказывается неспособным использовать ни свои любовно-эротические переживания, ни их прекрасный объект для целей творчества.
Если на примере гениального и скандального Ортиса Анджеевский последовательно разрабатывает концепцию художника-маргинала, «социального извращенца», заложника безумной природы искусства, чья натура a priori не укладывается в примитивно-обывательские представления о «нормальности», то анормальное увлечение Нагурского Nike имеет явно противоположный характер: «Ты — моя болезнь. Я тебя полюбил, чтобы смочь быть больным, наконец, чтобы смочь в больном мире оправдать себя состоянием своей болезни (курсив мой — А.С.)…» (С.313) — произносит Нагурский в одном из внутренних монологов.
Герой «Месива» и жаждет и боится своего «излечения», т.к. оно неотвратимо заставит его из мира пусть болезненных, но желанных иллюзий и фантазий вновь вернуться к проблемам реальности — к прерванной работе над новой книгой, к встрече с цензурой и читателями.
Наблюдая за поведением Нагурского и его окружения, Анджеевский констатирует у творческой элиты современной Польши «паралич воли», «волевое бессилие», неспособность к поступку.
Светлана Мусиенко видит в этом продолжение литературной традиции польского романтизма, связанной с неосуществленным героическим деянием главного героя: «Речь идет о несостоятельности эпохи ПНР и несостоятельности творческой интеллигенции, уподобившейся герою Ю. Словацкого: тот намеревался убить царя-угнетателя, да сомлел перед дверью его спальни» [53].
Как и в произведениях романтиков, проблема национального самоопределения, осознания своей роли в обществе и истории — одна из ключевых в «Месиве».
Исчерпывающую характеристику современных «польских комплексов» и особенностей национального менталитета дает на страницах романа Ксаверий Панек. В разговоре с Конрадом Келлером бывший преподаватель философии восклицает: «…дело не в том, что История, та, с большой буквы, гнетет нас, высасывает и перекашивает, а мы — жертвы и достигли бы заоблачных высот, когда бы не то или это, сам не знаю, но все чаще мне кажется, что совсем не исторический фатум загоняет нас в глупые ситуации, в бесплодность, скуку и безнадежность, в эту мутную пустоту, где столько усилий, намерений, планов и надежд напоминает гору, которая родила мышь, но мы сами не способны создавать историю и разумно строить общество, потому что всё — ум, впечатлительность, таланты, фантазия — всё кажется в нас прекрасным, живым и сверх всякой меры буйным, только вот всего этого мало, отчаянно, постыдно мало, хватает на вспышку, прорыв, стометровку, ослепительный жест, молниеносную импровизацию, а потом провал, не хватает топлива, вулканы гаснут,… бесценные энергии исчерпались, были алмазы, остался пепел…» (С.146).
Замечательную иллюстрацию этой теории представляет собой сам Ксаверий, который через минуту после произнесения страстного разоблачительного монолога о судьбах народа замечает в толпе фигуру своего любовника, молодого поэта Марека Курана, и тут же «побледнеет, руки у него задрожат, сердце забьется сильнее, и Польша, как старый, вылинявший орел, тяжело готовящийся к взлету со скалистого обрыва, выпорхнет у него из головы» (С. 147).
Как справедливо замечает А. Сынорадзкая-Демадр, после такой ремарки весь «пафос монолога делается комичным, и читатель уже не может воспринимать предшествующую сцену всерьез"[54].
Драма Ксаверия Панека, как и многих других героев «Месива», в том, что он способен только обличать, но не действовать.
Многие из гостей, присутствующих в Яблонне, подобно Целине Рашевской — жене партийного босса Стефана Рашевского, отцу невесты Леопольду Панеку или даже самому Адаму Нагурскому, и вовсе предпочитают с головой погрузиться в собственные размышления или воспоминания, лишь бы не иметь ничего общего с собравшимися (своеобразный вариант «внутренней эмиграции»).
Как замечает А. Сынорадская-Демадр, «некоторые герои присутствуют на приеме только телесно, а мысленно перемещаются во времени и пространстве"[55].
В этом случае Анджеевский использует упоминавшийся выше прием временного симультанизма — когда перед читателем разыгрываются сразу несколько эпизодов, разведенных в пространстве, но параллельных во времени.
Симультанизм смешивает виденное и воображаемое, внутреннее и внешнее, время и пространство, близкое и далекое, прошлое и настоящее. Симультанность повествования позволяет отцу невесты, Леопольду Панеку одновременно оказаться и в банкетном зале Яблонны на свадьбе любимой дочери Моники; и в маленькой кофейне на углу Театральной площади, где когда-то он сделал предложение своей будущей супруге Зофье, беременной от графа Сулемирского; и в промерзлом болоте, из которого во время войны ему пришлось выносить на себе тогда боевого товарища, а ныне грозного начальника Стефана Рашевского.
Все перемещения Панека, безусловно, осуществляются только в его замутненном алкоголем сознании, но читатель нередко узнает об этом лишь «задним числом», благодаря коротким ремаркам или объяснениям рассказчика, который как бы оценивает ретроспекции и интроспекции героев, взвешивает все возможные последствия и выносит окончательный вердикт — какие из них могли бы произойти или однажды произойдут в реальности, а каким никогда не суждено осуществиться.
Как остроумно замечает Сынорадзкая-Демадр, «некоторые сцены в „Приготовлениях“ функционируют совсем как „ящички“, вставленные в текст. Читателю предстоит их выдвинуть. То, что в одном эпизоде представляется свершившимся фактом — „твердым“ местом фабулы, через минуту оказывается лишь иллюзией» [56].
Иллюзией оказывается и весь сюжет, опровергающий и отвергающий себя самого по мере развития действия, и перспектива союза между людьми искусства и властью, и сама свадьба, которой не суждено состояться.
Как пишет В. Хорев, «…свадьбы нет и не может быть. И хотя между двумя мирами существуют взаимные связи, подлинные партнерские отношения их представителей невозможны. У обеих групп разные родословные, разные судьбы, разные комплексы и неосуществленные надежды» [57].
Польские литературные свадьбы традиционно имеют мало общего с историей единения двух любящих сердец. Авторы нередко жестоко обходятся с парой молодоженов, подмечая множество зловещих предзнаменований, способных препятствовать счастливому союзу. У М. Домбровской («На деревне свадьба») жених имеет пагубную привычку к выпивке, у М. Новаковского («И еще раз свадьба») стареющий ловелас ищет теплое местечко в крепкой крестьянской семье наивной молоденькой невесты, в миниатюре С. Мрожека («Свадьба в Атомицах») в основе сюжета и вовсе классическая погоня за приданным.
Союз Конрада и Моники в «Месиве» также обречен с самого начала: нареченные не любят друг друга. На провокационный вопрос невесты «Почему ты на мне женился?» Конрад Келлер после своей знаменитой паузы искренне отвечает: «Не знаю» (С.137). В отличие от жениха Моника хорошо знает причины, по которым намерена вступить в брак. Ее соображения, не оставляющие читателям никаких иллюзий, писатель суммирует в биографии, включенной в «Интермедию»: «Желая усилить свои позиции в театре, она (Моника Панек — А.С.) флиртует со знаменитым театральным актером Конрадом Келлером и доводит дело до свадьбы» (С.565).
Как замечает в своей статье Тереза Валас, «в „Месиве“ сам брак подвергается деградации: герои не особо знают, зачем должны пожениться и расходятся с облегчением. Пир превращается в пьянку. Деградация архетипа подчеркивает деградацию действительности» [58].
Две финальные части романа «Пролог» и Non Consummatum лишь фиксируют события, обусловившие крушение изначально обреченных надежд. Новоиспеченный директор театра Отоцкий, занявший место уволенного Романа Горбатого, затевает интригу, в результате которой роль леди Макбет, обещанная будущей невесте Монике Панек, достается ее главной сопернице по труппе — Беате Конарской.
Возмущенная Моника требует от своего жениха Конрада Келлера поддержать ее и в знак протеста отказаться от роли Макбета в том же спектакле. Конрад не соглашается. Оскорбленная в лучших чувствах невеста за день до торжества принимает блестящее решение — отменить свадьбу.
Как пишет Сынорадкая-Демадр, «в Non Consummatum читатель без эмоций следит за катастрофой матримониальных планов двух актеров, потому что не она является подлинным предметом последнего раздела свадебной истории. Куда важнее раненных чувств, становится сам запущенный механизм событий"[59].
Несмотря на отмену свадьбы, отменять банкет и предупреждать приглашенных оказывается уже слишком поздно. В субботу вечером в Яблонну начинают стекаться ни о чем не подозревающие гости, а вместе с ними случайно узнавшие о скандале молодые бездельники, падкие на дармовую выпивку и бесплатное угощение, в их числе — члены т.н. «черепашьего братства» — объединения молодых нигилистов из хорошо обеспеченных семей — безразличные, циничные и развращенные.
Именно им, пьяным, наглым и полуголым представителям молодого поколения поляков предстоит отпраздновать подлинную «современную польскую свадьбу» — без благословения и без молодоженов, а потом отплясать на дворцовом дворе хит сезона — «казачка» — уродливую пародию на полный тайного смысла танец Хохола из великой «Свадьбы» Станислава Выспяньского.
Тадеуш Древновский замечает: «В «Месиве» не только свадьба осталась non consummatum- так же non consummatum осталось и общество, нация…» [60].
Нагурский «унаследовал» от Анджеевского узнаваемые внешние черты (худая, высокая фигура), год и место рождения, дату литературного дебюта и ряд других эпизодов биографии (конспиративная деятельность во время войны и оккупации, политическая карьера в первые послевоенные годы и др.).
Анджеевский приписывает Нагурскому ряд собственных текстов, издававшихся в разное время отдельно от «Месива» (рассказы «Много песка и мало», «Молитва», эссе «Месса о поэте»). В других книгах, составляющих по сюжету творчество Нагурского, также угадываются аллюзии на художественное наследие самого Анджеевского: роман Нагурского «Вдохновение мира» («Natchnienie świata») о судьбе молодого аковца не может не напомнить читателю «Пепел и алмаз», а романы «Каролинка» («Karolinka») и «Желания» («Pragnienia»), приписанные Нагурскому, повторяют названия незаконченных книг Анджеевского.
Много общего можно найти и в жизненных обстоятельствах автора и его героя: как и у Анджеевского, новые произведения Нагурского не издаются, молодой читатель к нему безразличен, а власти, напротив, излишне внимательны и подозрительны.
Несомненный автобиографический отпечаток несет на себе и детально описанная личная жизнь Нагурского. В импровизированной «Лекции Адама Нагурского», посвященной воспоминаниям детства и юности героя, есть намек на гомосексуальные наклонности Адама, которые, как известно, разделял и сам Анджеевский.
Автобиографический характер имеет и история взаимоотношений стареющего писателя с юной авантюристкой Моникой Рихтер, «известной как Nike, а в некоторых кругах Варшавы как Пинг-понг» (С.403). В Дневнике Анджеевский пишет: «Во всю эту историю вмешался элемент неожиданный и банальный: когда шесть лет назад у меня начал формироваться этот любовный мотив — сфера и климат моих собственных переживаний совпадали с ощущениями Нагурского <…> сегодня мы находимся на совершенно разных этапах; для меня все это давно уже позади, я смотрю на все это с остывшей и безразличной перспективы весны семидесятого года, он — из меня и мной созданный — все еще зачарован и остается в моем шестьдесят четвертом — шестьдесят пятом…» (С. 427) [50].
Но основное, что объединяет автора и героя «Месива», это мучительный поиск ответов на вопросы о роли писателя в современном мире, о сущности творчества и искусства. В романе, в котором «проза о прозе» составляет едва ли не большую часть текста, эти вопросы занимают особое место.
Анджеевский записывает в Дневнике: «Я не пишу, чтобы упорядочить жизнь, гладко объяснить ее, напротив! я пишу, чтобы усложнить жизнь, показать ее более трудной и тяжелой, чем кажется людям. Только трудный мир вынуждает к сопротивлению!» (C.40). Автор видит задачу писателя, как и любого художника, в том, чтобы задавать вопросы, заставлять задумываться над ними, ставить проблемы, а не предлагать готовые решения и ответы. «…Я не могу ответить на многие вопросы. Но должен ли я уметь отвечать на них? Я всего лишь писатель. Писатель рассказывает и задает вопросы. Ничего больше» (C.504) — заключает Анджеевский.
В свою очередь Нагурский вступает в беседу с Целиной Рашевской:
«…- Вы — писатель, вы наверняка сумеете понять, что могла тогда чувствовать глупенькая, наивная девочка.
— Я понимаю. Но вы на самом деле думаете, что писатель должен понимать больше, нежели остальные?
— А как же! Если бы он не понимал больше, то зачем бы тогда писал?
— Может быть, за тем, чтобы сказать, что не понимает?" (С.87).
Тем не менее, образ Нагурского далек от идеализации[51], так же, как не идеализирован и образ самого Анджеевского как автора и героя Дневника. (Критик Т. Лубеньский, например, замечает, что в Дневнике «писатель почти совершает литературное самоубийство: он описывает месиво на собственном примере и за свой счет» [52]).
Характеристики Нагурского, как и большинства героев романа, противоречивы и колеблются от иступленного восхищения его творчеством, какое выражает в своем эссе «Не отступает тот, кто связан со звездой» молодой поклонник писателя Антек Рашевский, до невероятной самокомпрометации, эпатирующего «душевного стриптиза» — в «Лекции Адама Нагурского».
Анджеевский вынужден признать, что Нагурский не только не противостоит окружающему его «месиву» — общественному и политическому, а, напротив, все больше «смешивается» с толпой, адаптируется к ненормальности общества и его пошатнувшейся морали. Основная причина его падения как моралиста и как художника — унизительный роман с девушкой «с двусмысленным именем Nike» (Miazga, 52).
Мотив «рабской любви» — один из ключевых и наиболее ярких не только в «Месиве», но и во всем творчестве Анджеевского. На фабульном уровне он может реализовываться несколькими способами:
- как страсть пожилого человека к значительно более молодому: Нагурский — Nike, оперная примадонна Галина Ференс-Чаплицкая — аккомпаниатор Аймо Иммонен («Месиво»), или Ортиз — Франсуаза («Идет, скачет по горам»),
- как неразделенная любовь: Бланш и Мод — Жак из Клуа, Роббер — Мод («Врата рая»),
- как «запретное влечение» (однополая любовь): Ксаверий Панек — Марек Куран («Месиво»), Алексей Мелиссен — Жак из Клуа («Врата рая»).
Эротизм как таковой (необузданная и непреодолимая страсть, неудовлетворенность, ревность, затаенные, «подсознательные» желания) не просто находится в центре художественного внимания Анджеевского, но нередко становится основной движущей силой его сюжетов. Так было во «Вратах рая», буквально перенасыщенных эротическими подтекстами, так было в романе «Идет, скачет по горам», центральный персонаж которого, восьмидесятилетний художник Ортиз имеет немало общего с Адамом Нагурским.
Так же, как и Ортиз, стареющий Нагурский попадает под власть очаровательной «нимфетки» и страдает от мучительной, почти параноидальной страсти к ней. «В народных плачах и гуманистическом беспокойстве кроется меньше бесстыдства, чем в признании, что я безнадежно влюблен в красивую шлюху и из шлюхи сотворил божество, возведя ее на алтарь…» (С.430) — признается сам себе Нагурский.
Но в отличие от Ортиса, в страсти к молоденькой фотомодели Франсуазе обретающего утраченное вдохновение, герой «Месива» оказывается неспособным использовать ни свои любовно-эротические переживания, ни их прекрасный объект для целей творчества.
Если на примере гениального и скандального Ортиса Анджеевский последовательно разрабатывает концепцию художника-маргинала, «социального извращенца», заложника безумной природы искусства, чья натура a priori не укладывается в примитивно-обывательские представления о «нормальности», то анормальное увлечение Нагурского Nike имеет явно противоположный характер: «Ты — моя болезнь. Я тебя полюбил, чтобы смочь быть больным, наконец, чтобы смочь в больном мире оправдать себя состоянием своей болезни (курсив мой — А.С.)…» (С.313) — произносит Нагурский в одном из внутренних монологов.
Герой «Месива» и жаждет и боится своего «излечения», т.к. оно неотвратимо заставит его из мира пусть болезненных, но желанных иллюзий и фантазий вновь вернуться к проблемам реальности — к прерванной работе над новой книгой, к встрече с цензурой и читателями.
Наблюдая за поведением Нагурского и его окружения, Анджеевский констатирует у творческой элиты современной Польши «паралич воли», «волевое бессилие», неспособность к поступку.
Светлана Мусиенко видит в этом продолжение литературной традиции польского романтизма, связанной с неосуществленным героическим деянием главного героя: «Речь идет о несостоятельности эпохи ПНР и несостоятельности творческой интеллигенции, уподобившейся герою Ю. Словацкого: тот намеревался убить царя-угнетателя, да сомлел перед дверью его спальни» [53].
Как и в произведениях романтиков, проблема национального самоопределения, осознания своей роли в обществе и истории — одна из ключевых в «Месиве».
Исчерпывающую характеристику современных «польских комплексов» и особенностей национального менталитета дает на страницах романа Ксаверий Панек. В разговоре с Конрадом Келлером бывший преподаватель философии восклицает: «…дело не в том, что История, та, с большой буквы, гнетет нас, высасывает и перекашивает, а мы — жертвы и достигли бы заоблачных высот, когда бы не то или это, сам не знаю, но все чаще мне кажется, что совсем не исторический фатум загоняет нас в глупые ситуации, в бесплодность, скуку и безнадежность, в эту мутную пустоту, где столько усилий, намерений, планов и надежд напоминает гору, которая родила мышь, но мы сами не способны создавать историю и разумно строить общество, потому что всё — ум, впечатлительность, таланты, фантазия — всё кажется в нас прекрасным, живым и сверх всякой меры буйным, только вот всего этого мало, отчаянно, постыдно мало, хватает на вспышку, прорыв, стометровку, ослепительный жест, молниеносную импровизацию, а потом провал, не хватает топлива, вулканы гаснут,… бесценные энергии исчерпались, были алмазы, остался пепел…» (С.146).
Замечательную иллюстрацию этой теории представляет собой сам Ксаверий, который через минуту после произнесения страстного разоблачительного монолога о судьбах народа замечает в толпе фигуру своего любовника, молодого поэта Марека Курана, и тут же «побледнеет, руки у него задрожат, сердце забьется сильнее, и Польша, как старый, вылинявший орел, тяжело готовящийся к взлету со скалистого обрыва, выпорхнет у него из головы» (С. 147).
Как справедливо замечает А. Сынорадзкая-Демадр, после такой ремарки весь «пафос монолога делается комичным, и читатель уже не может воспринимать предшествующую сцену всерьез"[54].
Драма Ксаверия Панека, как и многих других героев «Месива», в том, что он способен только обличать, но не действовать.
Многие из гостей, присутствующих в Яблонне, подобно Целине Рашевской — жене партийного босса Стефана Рашевского, отцу невесты Леопольду Панеку или даже самому Адаму Нагурскому, и вовсе предпочитают с головой погрузиться в собственные размышления или воспоминания, лишь бы не иметь ничего общего с собравшимися (своеобразный вариант «внутренней эмиграции»).
Как замечает А. Сынорадская-Демадр, «некоторые герои присутствуют на приеме только телесно, а мысленно перемещаются во времени и пространстве"[55].
В этом случае Анджеевский использует упоминавшийся выше прием временного симультанизма — когда перед читателем разыгрываются сразу несколько эпизодов, разведенных в пространстве, но параллельных во времени.
Симультанизм смешивает виденное и воображаемое, внутреннее и внешнее, время и пространство, близкое и далекое, прошлое и настоящее. Симультанность повествования позволяет отцу невесты, Леопольду Панеку одновременно оказаться и в банкетном зале Яблонны на свадьбе любимой дочери Моники; и в маленькой кофейне на углу Театральной площади, где когда-то он сделал предложение своей будущей супруге Зофье, беременной от графа Сулемирского; и в промерзлом болоте, из которого во время войны ему пришлось выносить на себе тогда боевого товарища, а ныне грозного начальника Стефана Рашевского.
Все перемещения Панека, безусловно, осуществляются только в его замутненном алкоголем сознании, но читатель нередко узнает об этом лишь «задним числом», благодаря коротким ремаркам или объяснениям рассказчика, который как бы оценивает ретроспекции и интроспекции героев, взвешивает все возможные последствия и выносит окончательный вердикт — какие из них могли бы произойти или однажды произойдут в реальности, а каким никогда не суждено осуществиться.
Как остроумно замечает Сынорадзкая-Демадр, «некоторые сцены в „Приготовлениях“ функционируют совсем как „ящички“, вставленные в текст. Читателю предстоит их выдвинуть. То, что в одном эпизоде представляется свершившимся фактом — „твердым“ местом фабулы, через минуту оказывается лишь иллюзией» [56].
Иллюзией оказывается и весь сюжет, опровергающий и отвергающий себя самого по мере развития действия, и перспектива союза между людьми искусства и властью, и сама свадьба, которой не суждено состояться.
Как пишет В. Хорев, «…свадьбы нет и не может быть. И хотя между двумя мирами существуют взаимные связи, подлинные партнерские отношения их представителей невозможны. У обеих групп разные родословные, разные судьбы, разные комплексы и неосуществленные надежды» [57].
Польские литературные свадьбы традиционно имеют мало общего с историей единения двух любящих сердец. Авторы нередко жестоко обходятся с парой молодоженов, подмечая множество зловещих предзнаменований, способных препятствовать счастливому союзу. У М. Домбровской («На деревне свадьба») жених имеет пагубную привычку к выпивке, у М. Новаковского («И еще раз свадьба») стареющий ловелас ищет теплое местечко в крепкой крестьянской семье наивной молоденькой невесты, в миниатюре С. Мрожека («Свадьба в Атомицах») в основе сюжета и вовсе классическая погоня за приданным.
Союз Конрада и Моники в «Месиве» также обречен с самого начала: нареченные не любят друг друга. На провокационный вопрос невесты «Почему ты на мне женился?» Конрад Келлер после своей знаменитой паузы искренне отвечает: «Не знаю» (С.137). В отличие от жениха Моника хорошо знает причины, по которым намерена вступить в брак. Ее соображения, не оставляющие читателям никаких иллюзий, писатель суммирует в биографии, включенной в «Интермедию»: «Желая усилить свои позиции в театре, она (Моника Панек — А.С.) флиртует со знаменитым театральным актером Конрадом Келлером и доводит дело до свадьбы» (С.565).
Как замечает в своей статье Тереза Валас, «в „Месиве“ сам брак подвергается деградации: герои не особо знают, зачем должны пожениться и расходятся с облегчением. Пир превращается в пьянку. Деградация архетипа подчеркивает деградацию действительности» [58].
Две финальные части романа «Пролог» и Non Consummatum лишь фиксируют события, обусловившие крушение изначально обреченных надежд. Новоиспеченный директор театра Отоцкий, занявший место уволенного Романа Горбатого, затевает интригу, в результате которой роль леди Макбет, обещанная будущей невесте Монике Панек, достается ее главной сопернице по труппе — Беате Конарской.
Возмущенная Моника требует от своего жениха Конрада Келлера поддержать ее и в знак протеста отказаться от роли Макбета в том же спектакле. Конрад не соглашается. Оскорбленная в лучших чувствах невеста за день до торжества принимает блестящее решение — отменить свадьбу.
Как пишет Сынорадкая-Демадр, «в Non Consummatum читатель без эмоций следит за катастрофой матримониальных планов двух актеров, потому что не она является подлинным предметом последнего раздела свадебной истории. Куда важнее раненных чувств, становится сам запущенный механизм событий"[59].
Несмотря на отмену свадьбы, отменять банкет и предупреждать приглашенных оказывается уже слишком поздно. В субботу вечером в Яблонну начинают стекаться ни о чем не подозревающие гости, а вместе с ними случайно узнавшие о скандале молодые бездельники, падкие на дармовую выпивку и бесплатное угощение, в их числе — члены т.н. «черепашьего братства» — объединения молодых нигилистов из хорошо обеспеченных семей — безразличные, циничные и развращенные.
Именно им, пьяным, наглым и полуголым представителям молодого поколения поляков предстоит отпраздновать подлинную «современную польскую свадьбу» — без благословения и без молодоженов, а потом отплясать на дворцовом дворе хит сезона — «казачка» — уродливую пародию на полный тайного смысла танец Хохола из великой «Свадьбы» Станислава Выспяньского.
Тадеуш Древновский замечает: «В «Месиве» не только свадьба осталась non consummatum- так же non consummatum осталось и общество, нация…» [60].
~
Ответственность за существующий порядок вещей Анджеевский решительно возлагает на власть, т.е. на господствующий политический строй страны. «Раны, какие наносит личности разложившаяся власть, нередко делают человека столь же одиноким и как бы стыдливым, как одиноким и стыдливым становится человек, чей организм отравляет и разлагает неизлечимая болезнь» (С.117) – пишет в «Месиве» Анджеевский.
На страницах авторского Дневника писатель предпринимает попытку переосмысления истории своей страны в контексте всемирной истории тоталитаризма – со времен египетских фараонов до эпохи СССР. Исходя из истории собственного народа, Анджеевский открывает универсальные законы, касающиеся всех государств, в которых когда-либо имела место тоталитарная власть. Проблема существования тоталитаризма в «Месиве» осмысляется как проблема существования «зла вообще». Тоталитаризм осознается как последнее – ортодоксальное зло.
Анджеевский пишет: «Семь смертных грехов тоталитаризма: нетолерантность, нарушение прав человека, эгоизм, высокомерие, агрессивность, ложь, цинизм. Вопреки своим лозунгам тоталитаризм жестоко унижает человека, а когда делает из него победителя, в то же время превращает его в насильника и преступника. Глубокое неверие в человека лежит в основании так называемого культа личности» (С. 39).
В рассуждениях о природе и формах тоталитарной власти в «Месиве» писатель во многом продолжает проблематику своих книг конца 1950-ых годов («Мрак покрывает землю», «Врата рая»), которые, как уже говорилось выше, создавались в русле так называемой «литературы расчета». По замечанию С.Мусиенко, «”Месиво” “вышло” из литературы расчета и из творческих традиций самого Анджеевского: автор не собирался ставить диагноз системе, которую он обличает, для него гораздо важнее было показать возможные варианты как ее трансформации, так и распада» [61].
В «Месиве» Анджеевский вновь возвращается к проблеме власти, основанной на страхе. Страх как следствие террора парализует общество, главным образом, за счет того, что «уравнивает людей вниз» (С.39). «До сих пор, как известно, между людьми не было равенства. Одним судьба благоприятствовала больше, другим – меньше. А сейчас страдание уравняло всех»[62]– провозглашает Анджеевский в романе «Мрак покрывает землю» устами Томаса Торквемады и продолжает в «Месиве»: «…потенциально при тоталитарном режиме каждый гражданин может стать жертвой или мучителем, нередко достаточно одного шага, чтобы оказаться среди палачей, но ни один палач не может быть уверен, что однажды не окажется разбуженным посреди ночи в качестве жертвы» (С.39).
Страх преследует всех: и опальных художников и успешных чиновников, превращая людей в послушное, управляемое стадо. Как набор сугубо физических, почти животных ощущений-инстинктов изображен в романе страх директора театра Отоцкого перед встречей со всемогущим Стефаном Рашевским: «…никогда еще страх не мучил его так настойчиво, как последнее время, когда он не мог добиться приема у Рашевского. Он просыпался по ночам в мрачном омуте кошмарных и не запоминавшихся снов, лежал в темноте, обливаясь потом, парализованный обессиленными пространствами собственного тела, чувствуя под тяжелыми, сложенными на животе ладонями одутловатую выпуклость живота. Лицо его в темноте пухло, ступни и бедра становились огромными, а съежившееся и потное мужское достоинство язвительно напоминало о бренной скупости эротических начинаний. Он был слишком измотан, чтобы высунуть из-под одеяла руку и зажечь свет, а потому лежал в темноте, шепча: Господи Боже, и за что же человек так мучается?..» (С.173).
Приступ необъяснимого, маниакального страха вспоминает и писатель Нагурский: на одном из публичных выступлений, произнося с трибуны речь, он заметил, как двое высокопоставленных чиновников в первом ряду одновременно склоняются друг к другу и что-то шепчут. «Господи Боже, сколько разных предметов могли они тогда обсуждать! Мне же тотчас же показалось, нет! это была абсолютная уверенность, что, должно быть, в тексте, который я читаю, были какие-то ошибочные формулировки. И только их, исключительно их могли комментировать бдительные педагоги и воспитатели» (С.677). И, почувствовав, как «кровь отхлынула от висков и лица, а пронзительный холод прокрался под череп» (С.676), писатель потерял сознание прямо на сцене [63].
Тоталитарная система, по мысли Анджеевского, навязывает человеку противоестественную «замкнутую» модель существования, близкую действительности концентрационного лагеря, тюрьмы или больницы. В тоталитарных государствах люди лишаются права неприкосновенности личной жизни, права на свободу передвижения, слова и мысли. Последствия этих ограничений необратимы: «…Неволя также принадлежит к замкнутой действительности, и никто, кто сам ее не познал, не в состоянии понять механизма запретов, ограничений и различных деформаций, которым неизбежно подвергаются люди, живущие в неволе. Конечно, характер этих сдвигов и изменений проявляется по-разному, в зависимости от особенностей личности, и все же избежать печальной деградации не способен никто. В условиях несвободы даже лучшие что-то теряют, не имея возможности всесторонне реализовать себя…» (С.41) – пишет Анджеевский в «Месиве».
Анджеевский полемизирует с идеей о том, что власть является институтом, структурой или силой, которой наделены отдельные люди. Концепция власти в «Месиве» близка идеям французских постструктуралистов 1960-ых годов, понимавших власть как «проявление стихийной силы бессознательного» [64]. У Анджеевского, как и у Мишеля Фуко, власть, бесструктурна и «”принципиально равнодушна” по отношению к тем целям, которые преследуют ее носители» [65], т.е. может служить в равной степени, как добру, так и злу, выступать как репрессивная и как эмансипирующая сила.
Это лишает трактовку феномена власти в «Месиве» однозначно негативного смысла, он скорее приобретает характер фатальной неизбежности. Люди у власти, вынужденные ежедневно и еженощно оберегать, поддерживать и укреплять свое привилегированное положение, по мысли Анджеевского, как никто другой, лишены свободы, а, значит, достойны сочувствия и сожаления.
Анджеевский записывает в Дневнике: «Иногда я с искренним сожалением думаю, что в нашем партийно-правительственном аппарате действует огромное число людей умных и быстрых, и только общая ситуация, (поддержанию которой они способствуют), делает для них невозможным применить свои лучшие качества на благо общества, наоборот: именно свои лучшие способности и возможности они отдают служению делу, калечащему культуру. Отдают ли они себе в этом отчет? Я подозреваю, что да. Но одновременно я подозреваю, что их конфликты, какие должны проистекать из подобных противоречий, намного ничтожнее конфликта реального. Вот что, наверное, самое страшное: эта легкость поддержки и осуждения, эта легкость отказа от собственных убеждений, легкость, вытекающая из потребности быть всегда наверху, у власти, потребности, развращающей личность необратимым образом» (Miazga, с.496).
На тех же основаниях писатель отказывается от резкого осуждения политиков и политиканов: «Я не чувствую за собой права бескомпромиссно осуждать всех тех, кто по тем или иным причинам должен (или хочет) жить и действовать в более тесном союзе с действительностью, нежели я. Впрочем, я не был бы писателем, если бы одновременно не смог и не сумел разглядеть, какие внутренние конфликты провоцирует достойное сожаления расщепление сознания, сколько горечи оседает на губах, произносящих ложь, и какими трудными и тяжелыми могут быть (хоть и не всегда бывают) часы одиночества даже для тех, кого мы знаем по передовицам газет» (С. 100).
Подобной концепцией власти Анджеевский очерчивает метафизическое пространство, в котором живут и движутся его герои. Лишенные свободы выбора, «замурованные» в застенках собственных неврозов и страхов, они осознанно или бессознательно продолжают служить тому режиму, который порождает их страхи, двигаясь по жизни, как по замкнутому кругу.
Наиболее ярко этот принцип реализуется в образе секретаря ЦК ПОРП Стефана Рашевского. Бывший участник Движения Сопротивления, один из организаторов Гвардии Людовой, человек неординарный, по-своему умный, наделенный несомненными способностями руководителя и организатора, Рашевский сознательно выбирает роль «партийного босса», отказываясь от права на собственное мнение, свободу мысли и действий в пользу возможности находиться у власти. Но и он переживает момент драматических сомнений и внутренних противоречий: после введения советских войск в Чехословакию Рашевский возвращается домой заполночь «в состоянии алкогольного возбуждения или нервного расстройства» (С.121) и в откровенной беседе с женой осуждает участие польских частей в «этой жестокой агрессии» (С.121). Однако, когда его жена Целина Рашевская открыто высказывает свое мнение о «вырождении партии… окостеневшей, лицемерной, чуждой нации – снаружи и проеденной страхом, прислужничеством, подсиживанием и интригами – изнутри» (С.233), Рашевский молча выходит из комнаты, хлопнув дверью.
Осуждая Рашевского и подобных ему, Анджеевский не отрицает внутреннего трагизма их судеб. Как пишет Е.З.Цыбенко, характеризуя образ Рашевского, «эта фигура изображена совсем не карикатурно, а скорее трагично» [66].
Изображая в «Месиве» людей власти, Анджеевский сознательно отказывается от приемов сатиры или политического памфлета [67]. В Дневнике Анджеевский пишет: «Чего проще – отдаться игровой стихии искусства и, например, Форминьского создать «по образу и подобию» Икса… Но такой Форминьский, слепленный из запутанной и драматичной (как почти все биографии польских коммунистов) биографии Икса, а также из его товарищеского обаяния, из его обезоруживающего цинизма, из его многократных браков с девушками, которые ему в дочери годятся (последняя даже еще моложе), всегда не на самой вершине, но неизменно лет двадцать пять на высокой руководящей должности – такой Форминьский… должен быть прочитан как образец элементарной сатиры, потому что в такой поверхностной зарисовке он будет лишен всех элементов, которые параллельно с поступками, а нередко вопреки им, формируют интимную жизнь личности» (С.99).
Трагедия Рашевского и подобных ему понятна и объяснима, но необратима: он одинок и сеет одиночество вокруг себя. Его жена – Целина Рашевская – пренебрегает мужем и безмолвно умирает от неизлечимой болезни, его младший сын – Антек Рашевский – ненавидит отца и пытается обрести себя в беспомощном юношеском бунте против системы, которую возглавляет отец.
Однако одиночество Рашевского далеко от экзистенциального одиночества героев ранних произведений Анджеевского. В «Месиве» писатель окончательно утверждается в мысли, что одиночество не принадлежит к числу неизменных законов человеческой жизни, таких, как рождение, любовь или смерть, не является ни всеобщим, ни неизбежным, не настигает человека, но человек сам, своими поступками создает его. Рашевский одинок, но сам ответственен за свое одиночество.
Одна из героинь романа, дочь профессора Генрика Ванерта Алиция Зингер, пишет в письме к отцу: «Человек, чья совесть чиста, не должен ощущать одиночества… Одиночество угрожает нам лишь тогда, когда мы совершаем преступления по отношению к другим людям либо переступаем через моральные или общественные законы… Из всех одиночеств самое беспощадное – это одиночество диктаторов и тиранов» (С.324).
В образе Стефана Рашевского Анджеевский недвусмысленно продолжает линию, намеченную ранее в романе «Мрак покрывает землю». Речь идет о мотиве раскаяния идейного вождя и осознании им трагизма допущенных ошибок. Новым Торквемадой, на смертном одре осознавшем порочность системы, созданию которой он посвятил жизнь, становится в «Месиве» отец Стефана Рашевского, старый коммунист Зыгмунт Рашевский. В Дневнике писатель фиксирует набросок сцены, в которой сын беседует в больнице со своим умирающим отцом:
«Отец: Скажи,…мы ошиблись?
Сын: (после паузы) Папа, думаешь, что мне легко?
Отец: Мы ошиблись.
Сын: Я тоже мучаюсь, папа.
Отец: Люди из-за нас мучаются, сынок. Мы все ошиблись…» (С.686).
Один из возможных вариантов окончания этой сцены предполагал, что старый Рашевский перед смертью отдаст сыну партийный билет. Однако позже Анджеевский отказался от этого замысла: «Диалог Стефана Рашевского с умирающим отцом вышел искусственным, наверное, стоит отказаться от давней мысли, что старый Рашевский перед смертью отдает сыну партийное удостоверение» (Сс.686-687).
Раскаяние не состоялось. Consummatum non est.
На страницах авторского Дневника писатель предпринимает попытку переосмысления истории своей страны в контексте всемирной истории тоталитаризма – со времен египетских фараонов до эпохи СССР. Исходя из истории собственного народа, Анджеевский открывает универсальные законы, касающиеся всех государств, в которых когда-либо имела место тоталитарная власть. Проблема существования тоталитаризма в «Месиве» осмысляется как проблема существования «зла вообще». Тоталитаризм осознается как последнее – ортодоксальное зло.
Анджеевский пишет: «Семь смертных грехов тоталитаризма: нетолерантность, нарушение прав человека, эгоизм, высокомерие, агрессивность, ложь, цинизм. Вопреки своим лозунгам тоталитаризм жестоко унижает человека, а когда делает из него победителя, в то же время превращает его в насильника и преступника. Глубокое неверие в человека лежит в основании так называемого культа личности» (С. 39).
В рассуждениях о природе и формах тоталитарной власти в «Месиве» писатель во многом продолжает проблематику своих книг конца 1950-ых годов («Мрак покрывает землю», «Врата рая»), которые, как уже говорилось выше, создавались в русле так называемой «литературы расчета». По замечанию С.Мусиенко, «”Месиво” “вышло” из литературы расчета и из творческих традиций самого Анджеевского: автор не собирался ставить диагноз системе, которую он обличает, для него гораздо важнее было показать возможные варианты как ее трансформации, так и распада» [61].
В «Месиве» Анджеевский вновь возвращается к проблеме власти, основанной на страхе. Страх как следствие террора парализует общество, главным образом, за счет того, что «уравнивает людей вниз» (С.39). «До сих пор, как известно, между людьми не было равенства. Одним судьба благоприятствовала больше, другим – меньше. А сейчас страдание уравняло всех»[62]– провозглашает Анджеевский в романе «Мрак покрывает землю» устами Томаса Торквемады и продолжает в «Месиве»: «…потенциально при тоталитарном режиме каждый гражданин может стать жертвой или мучителем, нередко достаточно одного шага, чтобы оказаться среди палачей, но ни один палач не может быть уверен, что однажды не окажется разбуженным посреди ночи в качестве жертвы» (С.39).
Страх преследует всех: и опальных художников и успешных чиновников, превращая людей в послушное, управляемое стадо. Как набор сугубо физических, почти животных ощущений-инстинктов изображен в романе страх директора театра Отоцкого перед встречей со всемогущим Стефаном Рашевским: «…никогда еще страх не мучил его так настойчиво, как последнее время, когда он не мог добиться приема у Рашевского. Он просыпался по ночам в мрачном омуте кошмарных и не запоминавшихся снов, лежал в темноте, обливаясь потом, парализованный обессиленными пространствами собственного тела, чувствуя под тяжелыми, сложенными на животе ладонями одутловатую выпуклость живота. Лицо его в темноте пухло, ступни и бедра становились огромными, а съежившееся и потное мужское достоинство язвительно напоминало о бренной скупости эротических начинаний. Он был слишком измотан, чтобы высунуть из-под одеяла руку и зажечь свет, а потому лежал в темноте, шепча: Господи Боже, и за что же человек так мучается?..» (С.173).
Приступ необъяснимого, маниакального страха вспоминает и писатель Нагурский: на одном из публичных выступлений, произнося с трибуны речь, он заметил, как двое высокопоставленных чиновников в первом ряду одновременно склоняются друг к другу и что-то шепчут. «Господи Боже, сколько разных предметов могли они тогда обсуждать! Мне же тотчас же показалось, нет! это была абсолютная уверенность, что, должно быть, в тексте, который я читаю, были какие-то ошибочные формулировки. И только их, исключительно их могли комментировать бдительные педагоги и воспитатели» (С.677). И, почувствовав, как «кровь отхлынула от висков и лица, а пронзительный холод прокрался под череп» (С.676), писатель потерял сознание прямо на сцене [63].
Тоталитарная система, по мысли Анджеевского, навязывает человеку противоестественную «замкнутую» модель существования, близкую действительности концентрационного лагеря, тюрьмы или больницы. В тоталитарных государствах люди лишаются права неприкосновенности личной жизни, права на свободу передвижения, слова и мысли. Последствия этих ограничений необратимы: «…Неволя также принадлежит к замкнутой действительности, и никто, кто сам ее не познал, не в состоянии понять механизма запретов, ограничений и различных деформаций, которым неизбежно подвергаются люди, живущие в неволе. Конечно, характер этих сдвигов и изменений проявляется по-разному, в зависимости от особенностей личности, и все же избежать печальной деградации не способен никто. В условиях несвободы даже лучшие что-то теряют, не имея возможности всесторонне реализовать себя…» (С.41) – пишет Анджеевский в «Месиве».
Анджеевский полемизирует с идеей о том, что власть является институтом, структурой или силой, которой наделены отдельные люди. Концепция власти в «Месиве» близка идеям французских постструктуралистов 1960-ых годов, понимавших власть как «проявление стихийной силы бессознательного» [64]. У Анджеевского, как и у Мишеля Фуко, власть, бесструктурна и «”принципиально равнодушна” по отношению к тем целям, которые преследуют ее носители» [65], т.е. может служить в равной степени, как добру, так и злу, выступать как репрессивная и как эмансипирующая сила.
Это лишает трактовку феномена власти в «Месиве» однозначно негативного смысла, он скорее приобретает характер фатальной неизбежности. Люди у власти, вынужденные ежедневно и еженощно оберегать, поддерживать и укреплять свое привилегированное положение, по мысли Анджеевского, как никто другой, лишены свободы, а, значит, достойны сочувствия и сожаления.
Анджеевский записывает в Дневнике: «Иногда я с искренним сожалением думаю, что в нашем партийно-правительственном аппарате действует огромное число людей умных и быстрых, и только общая ситуация, (поддержанию которой они способствуют), делает для них невозможным применить свои лучшие качества на благо общества, наоборот: именно свои лучшие способности и возможности они отдают служению делу, калечащему культуру. Отдают ли они себе в этом отчет? Я подозреваю, что да. Но одновременно я подозреваю, что их конфликты, какие должны проистекать из подобных противоречий, намного ничтожнее конфликта реального. Вот что, наверное, самое страшное: эта легкость поддержки и осуждения, эта легкость отказа от собственных убеждений, легкость, вытекающая из потребности быть всегда наверху, у власти, потребности, развращающей личность необратимым образом» (Miazga, с.496).
На тех же основаниях писатель отказывается от резкого осуждения политиков и политиканов: «Я не чувствую за собой права бескомпромиссно осуждать всех тех, кто по тем или иным причинам должен (или хочет) жить и действовать в более тесном союзе с действительностью, нежели я. Впрочем, я не был бы писателем, если бы одновременно не смог и не сумел разглядеть, какие внутренние конфликты провоцирует достойное сожаления расщепление сознания, сколько горечи оседает на губах, произносящих ложь, и какими трудными и тяжелыми могут быть (хоть и не всегда бывают) часы одиночества даже для тех, кого мы знаем по передовицам газет» (С. 100).
Подобной концепцией власти Анджеевский очерчивает метафизическое пространство, в котором живут и движутся его герои. Лишенные свободы выбора, «замурованные» в застенках собственных неврозов и страхов, они осознанно или бессознательно продолжают служить тому режиму, который порождает их страхи, двигаясь по жизни, как по замкнутому кругу.
Наиболее ярко этот принцип реализуется в образе секретаря ЦК ПОРП Стефана Рашевского. Бывший участник Движения Сопротивления, один из организаторов Гвардии Людовой, человек неординарный, по-своему умный, наделенный несомненными способностями руководителя и организатора, Рашевский сознательно выбирает роль «партийного босса», отказываясь от права на собственное мнение, свободу мысли и действий в пользу возможности находиться у власти. Но и он переживает момент драматических сомнений и внутренних противоречий: после введения советских войск в Чехословакию Рашевский возвращается домой заполночь «в состоянии алкогольного возбуждения или нервного расстройства» (С.121) и в откровенной беседе с женой осуждает участие польских частей в «этой жестокой агрессии» (С.121). Однако, когда его жена Целина Рашевская открыто высказывает свое мнение о «вырождении партии… окостеневшей, лицемерной, чуждой нации – снаружи и проеденной страхом, прислужничеством, подсиживанием и интригами – изнутри» (С.233), Рашевский молча выходит из комнаты, хлопнув дверью.
Осуждая Рашевского и подобных ему, Анджеевский не отрицает внутреннего трагизма их судеб. Как пишет Е.З.Цыбенко, характеризуя образ Рашевского, «эта фигура изображена совсем не карикатурно, а скорее трагично» [66].
Изображая в «Месиве» людей власти, Анджеевский сознательно отказывается от приемов сатиры или политического памфлета [67]. В Дневнике Анджеевский пишет: «Чего проще – отдаться игровой стихии искусства и, например, Форминьского создать «по образу и подобию» Икса… Но такой Форминьский, слепленный из запутанной и драматичной (как почти все биографии польских коммунистов) биографии Икса, а также из его товарищеского обаяния, из его обезоруживающего цинизма, из его многократных браков с девушками, которые ему в дочери годятся (последняя даже еще моложе), всегда не на самой вершине, но неизменно лет двадцать пять на высокой руководящей должности – такой Форминьский… должен быть прочитан как образец элементарной сатиры, потому что в такой поверхностной зарисовке он будет лишен всех элементов, которые параллельно с поступками, а нередко вопреки им, формируют интимную жизнь личности» (С.99).
Трагедия Рашевского и подобных ему понятна и объяснима, но необратима: он одинок и сеет одиночество вокруг себя. Его жена – Целина Рашевская – пренебрегает мужем и безмолвно умирает от неизлечимой болезни, его младший сын – Антек Рашевский – ненавидит отца и пытается обрести себя в беспомощном юношеском бунте против системы, которую возглавляет отец.
Однако одиночество Рашевского далеко от экзистенциального одиночества героев ранних произведений Анджеевского. В «Месиве» писатель окончательно утверждается в мысли, что одиночество не принадлежит к числу неизменных законов человеческой жизни, таких, как рождение, любовь или смерть, не является ни всеобщим, ни неизбежным, не настигает человека, но человек сам, своими поступками создает его. Рашевский одинок, но сам ответственен за свое одиночество.
Одна из героинь романа, дочь профессора Генрика Ванерта Алиция Зингер, пишет в письме к отцу: «Человек, чья совесть чиста, не должен ощущать одиночества… Одиночество угрожает нам лишь тогда, когда мы совершаем преступления по отношению к другим людям либо переступаем через моральные или общественные законы… Из всех одиночеств самое беспощадное – это одиночество диктаторов и тиранов» (С.324).
В образе Стефана Рашевского Анджеевский недвусмысленно продолжает линию, намеченную ранее в романе «Мрак покрывает землю». Речь идет о мотиве раскаяния идейного вождя и осознании им трагизма допущенных ошибок. Новым Торквемадой, на смертном одре осознавшем порочность системы, созданию которой он посвятил жизнь, становится в «Месиве» отец Стефана Рашевского, старый коммунист Зыгмунт Рашевский. В Дневнике писатель фиксирует набросок сцены, в которой сын беседует в больнице со своим умирающим отцом:
«Отец: Скажи,…мы ошиблись?
Сын: (после паузы) Папа, думаешь, что мне легко?
Отец: Мы ошиблись.
Сын: Я тоже мучаюсь, папа.
Отец: Люди из-за нас мучаются, сынок. Мы все ошиблись…» (С.686).
Один из возможных вариантов окончания этой сцены предполагал, что старый Рашевский перед смертью отдаст сыну партийный билет. Однако позже Анджеевский отказался от этого замысла: «Диалог Стефана Рашевского с умирающим отцом вышел искусственным, наверное, стоит отказаться от давней мысли, что старый Рашевский перед смертью отдает сыну партийное удостоверение» (Сс.686-687).
Раскаяние не состоялось. Consummatum non est.
~
Широкий историко-литературный контекст для сюжетной прозы в романе формируют два необычных, во многом инновационных раздела, включенные Анджеевским в книгу уже на финальном этапе эволюции авторского замысла: Дневник и «Интермедия или Польские биографии».
«Интермедия» помещается между 2-ой и 3-ей частями книги, по мысли А. Сынорадзкой-Демадр, как бы разграничивая сценарий «то, как могло быть» и «то, как было на самом деле» [68].
Каждая помещенная в «Интермедию» биография (а всего их 87), включает в себя дату рождения и в ряде случаев смерти героя, его происхождение, образование, сферу деятельности, степень знакомства или родства с другими действующими лицами книги, политические взгляды, основные карьерные и профессиональные достижения. Биографии Адама Нагурского, Романа Горбатого, Марии Нагурской, Войчеха Зарембы и некоторых других героев из числа представителей художественной среды также включают в себя перечисление и краткий анализ их творческих достижений, воспоминания и оценки современников.
Многие биографии взаимно дополняют и уточняют друг друга; сопоставление содержащейся в них информации позволяет восстановить подлинную или более детальную картину событий, составить полное представление о судьбах той или иной семьи (например, семьи Солтанов-Нагурских) или любовной пары (Ференс-Чаплицкая и Аймо Иммонен), понять истоки взаимной дружбы или вражды героев (Леопольд Панек и Стефан Рашевский).
Это позволяет читать «Интермедию» как цельное повествование с весьма условным, но, тем не менее, прочерченным сюжетом, как «черновик ненаписанного эпоса, семейную сагу inposse» [69].
Критика не раз отмечала, что многие из помещенных в «Интермедию» биографий могли бы стать сюжетом для самостоятельных произведений — повестей, рассказов, киносценариев. В биографиях Анджеевский набрасывает десятки историй в разных жанрах и в разных литературных конвенциях, создавая своеобразную библиотеку нереализованных замыслов или идей для будущих книг [70].
Наравне с биографиями центральных героев, «Интермедия» включает и заметки о периферийных персонажах, которые ни разу не появляются на сцене действия, а фигурируют только в воспоминаниях или мыслях других героев. Это позволяет Терезе Валас говорить о том, что в «Месиве» наблюдается «избыточность биографий» [71], своего рода гиперреализм — детальность и достоверность, доведенные до логического предела.
Как отмечали некоторые исследователи романа, литературный персонаж, понимаемый как синтез определенных черт характера и фактов биографии, является в «Месиве» последним и единственным твердым элементом эпики, которого не коснулась тенденция деконструкции. Т. Валас справедливо замечает, что «психологические партии романа менее всего нарушены иронией и другими деструктивными приемами» [72].
Создавая форму «со всех сторон открытую, а изнутри неоднородную» (С.153), Анджеевский сохраняет неприкосновенным классический принцип психологической мотивированности поступков, индивидуализации внешнего вида и речи, логики развития биографий героев.
Образ героя в «Месиве» формируется за счет двух взаимодополняющих пластов информации: непосредственного и опосредованного.
Первый — непосредственный — сосредотачивает информацию, предоставляемую:
а) рассказчиком (традиционное эпическое повествование или авторская ремарка): «…Беата Конарская и Лукаш Галицкий уже в зале, до краев заполненном публикой, ищут свои места: она в широких, пижамных брюках из черного шелка и такой же рубашке, перехваченной на поясе золотой цепочкой, светловолосая, очень юная, побрякивающая многочисленными кольцами и бусами, он — в тонкой желтой водолазке под длинным, на манер старосветского сюртука скроенным пиджаком из черного вельвета и в узеньких вельветовых брюках…» (С.183).
Характерным способом раскрытия чувств и переживаний героев становится в «Месиве» и намеренно схематичный прием: «Противоречивые чувства Ксаверия:…» (С.312), «Противоречивые чувства Рашевского:…» (С.434), «Противоречивые чувства Зофьи Панек, когда она узнает от дочери, что свадьба не состоится:…» (С.472), после чего последовательно перечисляются заявленные противоречия. «Месиво» репрезентирует собой особый, специфический ракурс видения мира, когда в душевной жизни персонажа акцентируются крайние линии ее проявления. Повествователь концентрирует свое внимание на выявлении непоследовательностей, алогичностей, острых углов в сознании и мышлении героев. (Символичен в этом смысле образ фурий, раздирающих душу Орфея — героя автобиографических набросков писателя Адама Нагурского).
б) другими персонажами:
«…Галина: Он на самом деле великий актер?
Нагурский: Конрад? Да, это выдающийся актер.
Галина: Лицо у него очень интересное. И голос.
Нагурский: Он вообще очень интересный. Хотя, если говорить начистоту, я очень его хорошо знаю, и одновременно не знаю совсем, я, например, никогда, не могу однозначно ответить, на само деле он настолько умен или это только блестящая иллюзия интеллигентности. А может, потому-то он так и восхищает" (С.283).
Второй — опосредованный — пласт информации о персонаже относится к сфере интроспекции, характеристик внутреннего мира героя при помощи внутреннего монолога, чаще всего опирающегося на популярную в послефолкнеровской литературе технику «потока сознания», и soliloqium (исповеди), примером которой может служить «Лекция Адама Нагурского».
В свою очередь биографии из «Интермедии», как правило, представляют синтезированный, эмоционально нейтральный портрет героя, близкий стилистике энциклопедической справки или «личного дела», досье — «жанра» весьма распространенного в Польше периода повальных доносов и всеобщей взаимной слежки.
В «Интермедии» писатель предпринял попытку воссоздать сводную биографию своего народа. Биографии представляют процесс становления поляков как нации, начиная со времен Январского восстания вплоть до сегодняшних дней. Если фактическое действие книги разворачивается в течение 2-х апрельских дней 1969 года, то, благодаря биографиям, «Месиво» охватывает более полувека новейшей истории Польши.
Анджеевский настаивал на особой национальной специфике приведенных в «Месиве» биографий. «Их „польскость“ не в состоянии оценить никто, кто не родился и не вырос в этой стране» (С.453) — пишет в Дневнике автор.
«Польские биографии» — это в первую очередь польские судьбы, судьбы поляков — соотечественников и современников писателя — противоречивые, сложные, нередко трагические, несостоявшиеся, безвременно оборвавшиеся на войне, в лагерях, в изгнании. Герои «Интермедии» — это жертвы Освенцима, Майданека и Дахау, участники Варшавского восстания, вынужденные польские переселенцы в Сибири и Казахстане, эмигранты, диссиденты, высокопоставленные апологеты социализма и патриоты, сражавшиеся в Армии Крайовой. Перемешивая всех их между собой, Анджеевский не только отражает и обнажает общественное «месиво», но и, по мнению З. Копеца, «показывает, что тоталитарная система не щадит никого» [73].
Одновременно с этим «Интермедия» выполняет и необычную для романного текста, но чрезвычайно важную в случае с «Месивом» функцию путеводителя по запутанной и хаотичной системе персонажей романа. Анджеевский предполагал, что читатель, наткнувшись на незнакомую фамилию или запамятав о родословной героя, перелистает страницы книги и обратится к информации о персонаже в соответствующем разделе «Интермедии», (с этой целью биографии размещены, как принято в словарях, в алфавитном порядке, чтобы максимально облегчить читателю поиск информации).
В частности Анджеевский пишет: «Если читатель заинтересуется этой книгой, я так думаю, он проявит терпение, и, впервые столкнувшись в тексте с героем, о котором еще ничего неизвестно, поищет информацию о нем в „Биографиях“» (С.215).
Такой подход вынуждает читателя постоянно обращаться к помещенной в середине книги «Интермедии», нарушая привычный линейный принцип прочтения — от страницы к странице. Это сближает «Месиво» с современным представлением о динамической форме текста или гипертекстом, феномен которого напрямую связан с появлением и распространением Интернета.
Роман Анджеевского, наряду с книгами Милорада Павича или Итало Кальвино, можно отнести к категории «досетевых гипертекстов». Оставаясь в чистом виде письменными документами, они, тем не менее, основываются на принципах нелинеарной организации текста, близких к используемой в киберсети системе связи отдельных фрагментов посредством гиперссылок.
Неструктурированный (или не до конца структурированный) автором порядок чтения позволяет читателю самостоятельно выстраивать последовательность перемещения от одного фрагмента текста к другому, ориентируясь только на внутренние ссылки, или говоря языком киберпространства, «линки», (например, от собственно текста романа — к биографии того или иного героя в «Интермедии», потом к биографиям других, связанных с ним героев, потом опять к роману).
Для каждого читателя и при каждом сеансе чтения эта последовательность может быть разной. Это делает читателя практическим равноценным участником создания текста, а сам процесс чтения — параллельным и взаимодополняющим с процессом письма и не уступающим ему по своей важности. Вовлекая читателя в сложный, многоэтапный процесс чтения-писания текста, Анджеевский, подобно сторонникам современных теорий чтения, вменяет ему свободу упорядочить разорванный мир романа, «вчитать» в него логичность и смысл.
Внутренний диалог автора с читателем, в ходе которого последний в известной степени уравнивается в правах с автором-творцом, становясь со-участником творческой игры, является одним из наиболее явных признаком метапрозаического или автотематического повествования.
«Интермедия» помещается между 2-ой и 3-ей частями книги, по мысли А. Сынорадзкой-Демадр, как бы разграничивая сценарий «то, как могло быть» и «то, как было на самом деле» [68].
Каждая помещенная в «Интермедию» биография (а всего их 87), включает в себя дату рождения и в ряде случаев смерти героя, его происхождение, образование, сферу деятельности, степень знакомства или родства с другими действующими лицами книги, политические взгляды, основные карьерные и профессиональные достижения. Биографии Адама Нагурского, Романа Горбатого, Марии Нагурской, Войчеха Зарембы и некоторых других героев из числа представителей художественной среды также включают в себя перечисление и краткий анализ их творческих достижений, воспоминания и оценки современников.
Многие биографии взаимно дополняют и уточняют друг друга; сопоставление содержащейся в них информации позволяет восстановить подлинную или более детальную картину событий, составить полное представление о судьбах той или иной семьи (например, семьи Солтанов-Нагурских) или любовной пары (Ференс-Чаплицкая и Аймо Иммонен), понять истоки взаимной дружбы или вражды героев (Леопольд Панек и Стефан Рашевский).
Это позволяет читать «Интермедию» как цельное повествование с весьма условным, но, тем не менее, прочерченным сюжетом, как «черновик ненаписанного эпоса, семейную сагу inposse» [69].
Критика не раз отмечала, что многие из помещенных в «Интермедию» биографий могли бы стать сюжетом для самостоятельных произведений — повестей, рассказов, киносценариев. В биографиях Анджеевский набрасывает десятки историй в разных жанрах и в разных литературных конвенциях, создавая своеобразную библиотеку нереализованных замыслов или идей для будущих книг [70].
Наравне с биографиями центральных героев, «Интермедия» включает и заметки о периферийных персонажах, которые ни разу не появляются на сцене действия, а фигурируют только в воспоминаниях или мыслях других героев. Это позволяет Терезе Валас говорить о том, что в «Месиве» наблюдается «избыточность биографий» [71], своего рода гиперреализм — детальность и достоверность, доведенные до логического предела.
Как отмечали некоторые исследователи романа, литературный персонаж, понимаемый как синтез определенных черт характера и фактов биографии, является в «Месиве» последним и единственным твердым элементом эпики, которого не коснулась тенденция деконструкции. Т. Валас справедливо замечает, что «психологические партии романа менее всего нарушены иронией и другими деструктивными приемами» [72].
Создавая форму «со всех сторон открытую, а изнутри неоднородную» (С.153), Анджеевский сохраняет неприкосновенным классический принцип психологической мотивированности поступков, индивидуализации внешнего вида и речи, логики развития биографий героев.
Образ героя в «Месиве» формируется за счет двух взаимодополняющих пластов информации: непосредственного и опосредованного.
Первый — непосредственный — сосредотачивает информацию, предоставляемую:
а) рассказчиком (традиционное эпическое повествование или авторская ремарка): «…Беата Конарская и Лукаш Галицкий уже в зале, до краев заполненном публикой, ищут свои места: она в широких, пижамных брюках из черного шелка и такой же рубашке, перехваченной на поясе золотой цепочкой, светловолосая, очень юная, побрякивающая многочисленными кольцами и бусами, он — в тонкой желтой водолазке под длинным, на манер старосветского сюртука скроенным пиджаком из черного вельвета и в узеньких вельветовых брюках…» (С.183).
Характерным способом раскрытия чувств и переживаний героев становится в «Месиве» и намеренно схематичный прием: «Противоречивые чувства Ксаверия:…» (С.312), «Противоречивые чувства Рашевского:…» (С.434), «Противоречивые чувства Зофьи Панек, когда она узнает от дочери, что свадьба не состоится:…» (С.472), после чего последовательно перечисляются заявленные противоречия. «Месиво» репрезентирует собой особый, специфический ракурс видения мира, когда в душевной жизни персонажа акцентируются крайние линии ее проявления. Повествователь концентрирует свое внимание на выявлении непоследовательностей, алогичностей, острых углов в сознании и мышлении героев. (Символичен в этом смысле образ фурий, раздирающих душу Орфея — героя автобиографических набросков писателя Адама Нагурского).
б) другими персонажами:
«…Галина: Он на самом деле великий актер?
Нагурский: Конрад? Да, это выдающийся актер.
Галина: Лицо у него очень интересное. И голос.
Нагурский: Он вообще очень интересный. Хотя, если говорить начистоту, я очень его хорошо знаю, и одновременно не знаю совсем, я, например, никогда, не могу однозначно ответить, на само деле он настолько умен или это только блестящая иллюзия интеллигентности. А может, потому-то он так и восхищает" (С.283).
Второй — опосредованный — пласт информации о персонаже относится к сфере интроспекции, характеристик внутреннего мира героя при помощи внутреннего монолога, чаще всего опирающегося на популярную в послефолкнеровской литературе технику «потока сознания», и soliloqium (исповеди), примером которой может служить «Лекция Адама Нагурского».
В свою очередь биографии из «Интермедии», как правило, представляют синтезированный, эмоционально нейтральный портрет героя, близкий стилистике энциклопедической справки или «личного дела», досье — «жанра» весьма распространенного в Польше периода повальных доносов и всеобщей взаимной слежки.
В «Интермедии» писатель предпринял попытку воссоздать сводную биографию своего народа. Биографии представляют процесс становления поляков как нации, начиная со времен Январского восстания вплоть до сегодняшних дней. Если фактическое действие книги разворачивается в течение 2-х апрельских дней 1969 года, то, благодаря биографиям, «Месиво» охватывает более полувека новейшей истории Польши.
Анджеевский настаивал на особой национальной специфике приведенных в «Месиве» биографий. «Их „польскость“ не в состоянии оценить никто, кто не родился и не вырос в этой стране» (С.453) — пишет в Дневнике автор.
«Польские биографии» — это в первую очередь польские судьбы, судьбы поляков — соотечественников и современников писателя — противоречивые, сложные, нередко трагические, несостоявшиеся, безвременно оборвавшиеся на войне, в лагерях, в изгнании. Герои «Интермедии» — это жертвы Освенцима, Майданека и Дахау, участники Варшавского восстания, вынужденные польские переселенцы в Сибири и Казахстане, эмигранты, диссиденты, высокопоставленные апологеты социализма и патриоты, сражавшиеся в Армии Крайовой. Перемешивая всех их между собой, Анджеевский не только отражает и обнажает общественное «месиво», но и, по мнению З. Копеца, «показывает, что тоталитарная система не щадит никого» [73].
Одновременно с этим «Интермедия» выполняет и необычную для романного текста, но чрезвычайно важную в случае с «Месивом» функцию путеводителя по запутанной и хаотичной системе персонажей романа. Анджеевский предполагал, что читатель, наткнувшись на незнакомую фамилию или запамятав о родословной героя, перелистает страницы книги и обратится к информации о персонаже в соответствующем разделе «Интермедии», (с этой целью биографии размещены, как принято в словарях, в алфавитном порядке, чтобы максимально облегчить читателю поиск информации).
В частности Анджеевский пишет: «Если читатель заинтересуется этой книгой, я так думаю, он проявит терпение, и, впервые столкнувшись в тексте с героем, о котором еще ничего неизвестно, поищет информацию о нем в „Биографиях“» (С.215).
Такой подход вынуждает читателя постоянно обращаться к помещенной в середине книги «Интермедии», нарушая привычный линейный принцип прочтения — от страницы к странице. Это сближает «Месиво» с современным представлением о динамической форме текста или гипертекстом, феномен которого напрямую связан с появлением и распространением Интернета.
Роман Анджеевского, наряду с книгами Милорада Павича или Итало Кальвино, можно отнести к категории «досетевых гипертекстов». Оставаясь в чистом виде письменными документами, они, тем не менее, основываются на принципах нелинеарной организации текста, близких к используемой в киберсети системе связи отдельных фрагментов посредством гиперссылок.
Неструктурированный (или не до конца структурированный) автором порядок чтения позволяет читателю самостоятельно выстраивать последовательность перемещения от одного фрагмента текста к другому, ориентируясь только на внутренние ссылки, или говоря языком киберпространства, «линки», (например, от собственно текста романа — к биографии того или иного героя в «Интермедии», потом к биографиям других, связанных с ним героев, потом опять к роману).
Для каждого читателя и при каждом сеансе чтения эта последовательность может быть разной. Это делает читателя практическим равноценным участником создания текста, а сам процесс чтения — параллельным и взаимодополняющим с процессом письма и не уступающим ему по своей важности. Вовлекая читателя в сложный, многоэтапный процесс чтения-писания текста, Анджеевский, подобно сторонникам современных теорий чтения, вменяет ему свободу упорядочить разорванный мир романа, «вчитать» в него логичность и смысл.
Внутренний диалог автора с читателем, в ходе которого последний в известной степени уравнивается в правах с автором-творцом, становясь со-участником творческой игры, является одним из наиболее явных признаком метапрозаического или автотематического повествования.
~
Категория метапрозы, возникнув относительно недавно, в 1970−80-ые годы, по справедливому замечанию Марка Липовецкого, «оказалась приложимой к широчайшему кругу литературных явлений: от „Дон Кихотa“ и „Тристрама Шенди“ до классических романов модернизма и новейших постмодернистских экспериментов» [74], благодаря чему сделала блестящую карьеру в современном литературоведении. К метапрозе или метафикциональной прозе сегодня принято относить произведения, в которых «сознательно и систематически подвергается рефлексии их собственный статус как артефактов, с чем в свою очередь связано особое внимание к вопросам отношений между вымыслом литературы (fiction) и реальностью» [75].
Иными словами, метапроза представляет собой своеобразную «прозу о прозе», в которой, помимо прочего, речь идет о самой литературе, о принципах и способах создания («выделки») художественного текста и о творческом процессе, понимаемом как неотъемлемая часть жизни [76].
Эксперименты в области метафикциональной прозы имеют глубокие корни в польской литературной традиции. Одним из первых метафикциональных романов не только в польской, но, вероятно, и во всей европейской литературе является «Химера» («Pałuba») Кароля Ижиковского [77]. (Опубликованный в 1903 году роман Ижиковского почти на четверть опережает знаменитых «Фальшивомонетчиков» Андре Жида).
Во второй половине ХХ века, в результате колебаний жанровой нормы в польской прозе сформируется так называемая «сильвическая литература» (от латинского silva rerum — лес вещей), также продолжающая поиски в области метафикциональности: А. Рудницкий «Голубые странички» (1957), Т. Ружевич «Приготовления к авторскому вечеру» (1971), М. Бялошевкий «Доносы действительности» (1973), Т. Конвицкий «Календарь и клепсидра» (1976) и др.
В рамках метафикциональной стратегии можно рассматривать экспериментальный роман Вильгельма Маха «Горы у Черного моря», «Фердедурку» Витольда Гомбровича, позднюю драматургию Славомира Мрожека и Тадеуша Ружевича.
Новаторство Кароля Ижиковского по сравнению с его многочисленными последователями и предшественниками состояло в намеренной экспликации тех моментов, которые релятивизируют творческий процесс, подрывают сам статус художественного вымысла через посягновение на такие до сих пор неприкосновенные его атрибуты, как самодовлеющий характер созданного в произведении мира и внеположность автора этому миру. Благодаря введению в структуру «Химеры» таких «дополнительных» по отношению к сюжетной части разделов, как «Примечания к „Химере“», «Толкование „Снов Марии Дунин“» и «Шанец „Химеры“», мир произведения как бы «разгерметизируется», преодолеваются границы, до недавнего времени отделявшие его от автора и читателя. «Я решил, — пишет Ижиковский на страница романа, применить совершенно новый литературный метод, воплотить идеал, давно уже занимавший мои мысли. Он основывается на перенесении центра тяжести с „шедевра“ на лабораторию художника, т. е. за пределы произведения, именно туда, где бьет источник поэзии» [78].
По тому же пути идет Ежи Анджеевский в «Месиве», дополняя текст своего романа текстом авторского Дневника [79].
Решение это при всем своем новаторстве и оригинальности не было для Анджеевского ни неожиданным, ни случайным. По мнению Эраста Кузьмы, начиная с микроромана «Врата рая», Анджеевский «пишет одну автотематическую книгу» [80]. Авторский комментарий, представляющий ли собой интегральную часть текста книги или выведенный «за кадр» — в область литературных дневников, которые писатель вел на протяжении всей своей жизни и большая часть из которых опубликована, является неотъемлемой составляющей всего творчества Анджеевского.
Начиная с самых ранних произведений писатель множит в своих книгах образы героев, в различной степени наделенных автобиографическими чертами, нередко отождествляет себя с нарратором, создает специфическую галерею литературных двойников. При этом далеко не всегда удается определить, какие из персонажей и их характеристик наследуют подлинные факты биографии писателя, а какие относятся к сфере фикции, намеренно имитирующей реальность, нацеленной на создание иллюзии правдоподобия в рамках литературной игры.
По мнению исследовательницы М. Черминьской, родоначальником такого рода стратегии в польской литературе является Витольд Гомбрович, который первым в своем знаменитом «Дневнике» заменил традиционную оппозицию «я — я» или «я — мир» на концептуально новое соотношение «я — ты» [81].
Гомбрович стал для польской литературы первооткрывателем и предтечей определенной формы литературного дискурса, свойственной большинству произведений, сочетающих автобиографизм и литературную фикцию, пограничных с точки зрения жанровой принадлежности. Именно он ввел в польскую литературу специфический способ повествования о себе, модель формирования собственного образа согласно требованиям художественной литературы, когда писатель не только «рассказывает» историю, оставаясь извне по отношению к изображаемому, но и сам принимает участие в рассказе, становится неотторгаемой частью текста. Как пишет Е. Яжембский, «в учениках у Гомбровича ходили все те писатели, которые пробовали преобразовать автобиографические и автопрезентативные формы в произведение искусства, которые самих себя, собственные переживания, тайну своего „я“ трактовали как предмет литературы» [82].
Введение в текст «Месива» авторского Дневника позволяет писателю, выйти «один на один» к своему читателю, не прибегая к традиционным романным маскам или другим способам литературной мимикрии, и в то же время оставляет значительно большее пространство для маневров, нежели классические публицистические формы репортажа или эссе. Дневник, включенный в канву художественного (читай: вымышленного) повествования, нередко плавно перетекающий в него и наоборот, автоматически начинает подчиняться законам литературной фикции, перестает быть документальным свидетельством, которое принято принимать на веру. Неслучайно Т. Валас ставит под сомнение достоверность Дневника, включенного в текст «Месива»: «Трудно эту достоверность опровергнуть, и все же следует соблюдать большую осторожность, помня, что это — дневник, приготовленный на нужды произведения, стало быть, дневник par exellence литературный"[83]. Эраст Кузьма идет и того дальше, называя Дневник в «Месиве» еще одним (наряду с сильвами Конвицкого) «лже-дневником» [84] в польской литературе [85].
Дневник выполняет в произведении противоречивые функции. С одной стороны, он является организующим началом в хаотичной, разорванной структуре повествования, вписывает конкретное действие романа в широкий историко-культурный контекст, обобщает и осмысляет события произведения. С другой стороны, записки Дневника регулярно прерывают и без того запутанное романное повествование, замедляют развитие многочисленных сюжетных линий, фиксируют факультативные варианты развития действия, т. е. последовательно дискредитирует потенциальную целостность и завершенность повествования. Как пишет Герман Риц, «Дневник, так же, как и весь роман обладает и деструктивной и конструктивной функциями, причем одна тенденция никогда целиком не подчиняется другой» [86].
Нередко Дневник незаметно трансформируется в роман, роман, напротив, последовательно приближается по характеру повествования к дневнику или черновику (пропуски, многоточия, незаконченные фразы, планы-конспекты глав и пр.). Происходит взаимопроникновение текста Дневника и текста романа, а, как следствие, реальности и литературной фикции, в результате чего едва ли не треть собственно текста романа оказывается на страницах Дневника, причем реальные персонажи соседствуют с вымышленными, а вымышленные находят очевидные соответствия в реальности [87].
«Месиво» нередко интерпретируют как «роман с ключом», т. е. произведение, герои и события которого имеют реальные и, что немаловажно, узнаваемые прототипы. Вероятность такого прочтения не исключал и сам Анджеевский, который на страницах Дневника размышляет: «У меня нет ни малейших иллюзий в отношении разбойничьего характера сочинительства, и я не испытываю никаких угрызений совести, когда явно или неявно использую в книге реалии, связанные с ныне живущими людьми. Собственно, за много лет, в течение которых я пишу и публикуюсь, только два человека почувствовали себя задетыми: дипломат, которого уже нет в живых и который в свое время, обидевшись за жену, прислал мне гневное письмо, т.к. решил, что я сознательно и с недобрыми намерениями наделил его фамилией малосимпатичную особу женского пола в „Пепле и алмазе“; вторым был Витольд Гомбрович <…>, глубоко задетый одним из фрагментов „Идет, скачет по горам“, фрагментом — я это признаю — в котором я сознательно его провоцировал, и кроме этого понятном только для него самого и очень узкого круга особо догадливых читателей» (С.98).
В «Месиве» Анджеевский охотно и без утайки использует известные детали биографий и обыгрывает характерные внешние и поведенческие черты многих своих знакомых или коллег из варшавской артистической среды, имена которых были у всех на слуху.
Наиболее полную и детальную попытку «расшифровки» всех завуалированных подтекстов книги предприняла в своей статье, предваряющей последнее полное издание романа, Анна Сынорадзкая-Демадр[88]. По ее мнению в романе встречаются 3 типа персонажей:
Наиболее любопытный ряд представляет собой, вне всякого сомнения, вторая группа персонажей, т.к. открывает неограниченные возможности для поиска новых (тайных) смыслов и интерпретаций.
Самым ярким узнаваемым образом из второй группы является Адам Нагурский, который, как мы уже подробно писали выше, «копирует» в романе многие черты самого Анджеевского.
Театральный режиссер Роман Горбатый недвусмысленно напоминает Казимежа Деймека, автора скандально известной постановки «Дзядов».
Прототипом актера Конрада Келлера, скорее всего, является знаменитый актер Густав Голоубек, (именно шумная свадьба Голоубека с актрисой Майей Ваховяк, состоявшаяся в свое время в Яблонне, подтолкнула Анджеевского к созданию некоторых эпизодов романа) [89].
Мацей Заремба, «звезда» тогдашнего кинематографа, исполнитель главной роли в фильме по сценарию Адама Нагурского «Вдохновение мира», кумир и образец для подражания молодежи, безусловно, является романным отражением великолепного актера Збигнева Цыбульского, прославившегося благодаря роли Мачека Хелмицкого в экранизации романа Анджеевского «Пепел и алмаз». Стоит отметить, что в редакции «Месива» 1966 года еще ничто не предвещало скорого заката карьеры Зарембы (в той версии — Войцеха Бельского), как никто тогда не мог предвидеть трагической гибели Цыбульского в 1967 году под колесами поезда на Вроцлавском вокзале.
В окончательную редакцию романа Анджеевский добавил несколько новых сцен с участием Зарембы, в том числе эпизод его гибели (Заремба разбивается на автомобиле), а также сцены, представляющие диалоги Зарембы с активно теснящим его со сцены молодым актером Лукашем Галицким (прототип — Даниэль Ольбрыхский) и режиссером Генриком Ванертом, в котором без труда угадываются черты близкого друга и соратника Анджеевского режиссера Анджея Вайды.
В романе встречается также ряд персонажей, «идентифицировать» которых уже не под силу рядовому читателю, для установления их прототипов необходимо более или менее подробное знание биографии автора, его близкого окружения. К числу таких персонажей относится образ Nike, о котором мы писали выше, сочетающий в себе черты сразу двух реально существовавших людей, а также образы некоторых других героев, за которыми оказались «закомуфлированы» друзья, увлечения и симпатии автора «Месива».
В образе Антека Рашевского Анджеевский увековечил своего молодого друга Антония Либеру. Алиция Стамировская, дочь профессора Генрика Ванерта, напоминает первую жену Анджеевского Нону-Барбару Секежиньскую, брак с которой продлился всего год. Молодой поэт Кшиштоф Чаплицкий, погибший во время Варшавского восстания, без сомнения, отражает в романе судьбу поэта Кшиштофа Бачиньского, портрет которого Анджеевский до конца своих дней хранил на письменном столе, и которого, по воспоминаниям современников, называл «самой большой любовью своей жизни».
Информация о путях становления образов тех или иных героев, а также об их реальных прототипах не раз встречается в Дневнике. Например, об образе режиссера Эрика Ванерта Анджеевский пишет: «Воодушевленный <…> сценой с подсвечниками я хотел позвонить Анджею Вайде, однако мне пришло в голову, что подобную идею мог бы использовать двойник Анджея в „Месиве“, т. е. Эрик Ванерт» (С.57).
Дневник в «Месиве» так же, как и заметки из цикла литературных дневников и воспоминаний Анджеевского, опубликованные позже в двух книгах — «Изо дня в день. Литературный дневник 1972−1979» («Z dnia na Dzień. Dziennik literacki 1972−1979», книжное издание 1988) и «Игра с тенью» («Gra z cieniem», 1987), включает в себя несколько основных тематических составляющих. Наряду с подробностями повседневной жизни, такими, как встречи с друзьями, заметки о здоровье или погоде, впечатления от прочитанного, писатель всесторонне освещает историю создания произведения, над которым в данный момент работает, нередко как бы проводит ревизию уже написанного текста: комментирует некоторые из своих приемов, редактирует законченные эпизоды и сцены, схематически намечает те, которые не были и уже, скорее всего, не будут написаны.
Таким образом, внутри Дневника в «Месиве» можно выделить, как это делает в своей работе «Функции дневника в прозе Е. Анджеевского» польский критик Э. Кузьма[90], три функционально различные тематические разновидности:
1. интимный дневник (dziennik intymny),
2. литературный дневник (dziennik literacki),
3. дневник читателя (dziennik lektur).
Остановимся на них подробнее.
Иными словами, метапроза представляет собой своеобразную «прозу о прозе», в которой, помимо прочего, речь идет о самой литературе, о принципах и способах создания («выделки») художественного текста и о творческом процессе, понимаемом как неотъемлемая часть жизни [76].
Эксперименты в области метафикциональной прозы имеют глубокие корни в польской литературной традиции. Одним из первых метафикциональных романов не только в польской, но, вероятно, и во всей европейской литературе является «Химера» («Pałuba») Кароля Ижиковского [77]. (Опубликованный в 1903 году роман Ижиковского почти на четверть опережает знаменитых «Фальшивомонетчиков» Андре Жида).
Во второй половине ХХ века, в результате колебаний жанровой нормы в польской прозе сформируется так называемая «сильвическая литература» (от латинского silva rerum — лес вещей), также продолжающая поиски в области метафикциональности: А. Рудницкий «Голубые странички» (1957), Т. Ружевич «Приготовления к авторскому вечеру» (1971), М. Бялошевкий «Доносы действительности» (1973), Т. Конвицкий «Календарь и клепсидра» (1976) и др.
В рамках метафикциональной стратегии можно рассматривать экспериментальный роман Вильгельма Маха «Горы у Черного моря», «Фердедурку» Витольда Гомбровича, позднюю драматургию Славомира Мрожека и Тадеуша Ружевича.
Новаторство Кароля Ижиковского по сравнению с его многочисленными последователями и предшественниками состояло в намеренной экспликации тех моментов, которые релятивизируют творческий процесс, подрывают сам статус художественного вымысла через посягновение на такие до сих пор неприкосновенные его атрибуты, как самодовлеющий характер созданного в произведении мира и внеположность автора этому миру. Благодаря введению в структуру «Химеры» таких «дополнительных» по отношению к сюжетной части разделов, как «Примечания к „Химере“», «Толкование „Снов Марии Дунин“» и «Шанец „Химеры“», мир произведения как бы «разгерметизируется», преодолеваются границы, до недавнего времени отделявшие его от автора и читателя. «Я решил, — пишет Ижиковский на страница романа, применить совершенно новый литературный метод, воплотить идеал, давно уже занимавший мои мысли. Он основывается на перенесении центра тяжести с „шедевра“ на лабораторию художника, т. е. за пределы произведения, именно туда, где бьет источник поэзии» [78].
По тому же пути идет Ежи Анджеевский в «Месиве», дополняя текст своего романа текстом авторского Дневника [79].
Решение это при всем своем новаторстве и оригинальности не было для Анджеевского ни неожиданным, ни случайным. По мнению Эраста Кузьмы, начиная с микроромана «Врата рая», Анджеевский «пишет одну автотематическую книгу» [80]. Авторский комментарий, представляющий ли собой интегральную часть текста книги или выведенный «за кадр» — в область литературных дневников, которые писатель вел на протяжении всей своей жизни и большая часть из которых опубликована, является неотъемлемой составляющей всего творчества Анджеевского.
Начиная с самых ранних произведений писатель множит в своих книгах образы героев, в различной степени наделенных автобиографическими чертами, нередко отождествляет себя с нарратором, создает специфическую галерею литературных двойников. При этом далеко не всегда удается определить, какие из персонажей и их характеристик наследуют подлинные факты биографии писателя, а какие относятся к сфере фикции, намеренно имитирующей реальность, нацеленной на создание иллюзии правдоподобия в рамках литературной игры.
По мнению исследовательницы М. Черминьской, родоначальником такого рода стратегии в польской литературе является Витольд Гомбрович, который первым в своем знаменитом «Дневнике» заменил традиционную оппозицию «я — я» или «я — мир» на концептуально новое соотношение «я — ты» [81].
Гомбрович стал для польской литературы первооткрывателем и предтечей определенной формы литературного дискурса, свойственной большинству произведений, сочетающих автобиографизм и литературную фикцию, пограничных с точки зрения жанровой принадлежности. Именно он ввел в польскую литературу специфический способ повествования о себе, модель формирования собственного образа согласно требованиям художественной литературы, когда писатель не только «рассказывает» историю, оставаясь извне по отношению к изображаемому, но и сам принимает участие в рассказе, становится неотторгаемой частью текста. Как пишет Е. Яжембский, «в учениках у Гомбровича ходили все те писатели, которые пробовали преобразовать автобиографические и автопрезентативные формы в произведение искусства, которые самих себя, собственные переживания, тайну своего „я“ трактовали как предмет литературы» [82].
Введение в текст «Месива» авторского Дневника позволяет писателю, выйти «один на один» к своему читателю, не прибегая к традиционным романным маскам или другим способам литературной мимикрии, и в то же время оставляет значительно большее пространство для маневров, нежели классические публицистические формы репортажа или эссе. Дневник, включенный в канву художественного (читай: вымышленного) повествования, нередко плавно перетекающий в него и наоборот, автоматически начинает подчиняться законам литературной фикции, перестает быть документальным свидетельством, которое принято принимать на веру. Неслучайно Т. Валас ставит под сомнение достоверность Дневника, включенного в текст «Месива»: «Трудно эту достоверность опровергнуть, и все же следует соблюдать большую осторожность, помня, что это — дневник, приготовленный на нужды произведения, стало быть, дневник par exellence литературный"[83]. Эраст Кузьма идет и того дальше, называя Дневник в «Месиве» еще одним (наряду с сильвами Конвицкого) «лже-дневником» [84] в польской литературе [85].
Дневник выполняет в произведении противоречивые функции. С одной стороны, он является организующим началом в хаотичной, разорванной структуре повествования, вписывает конкретное действие романа в широкий историко-культурный контекст, обобщает и осмысляет события произведения. С другой стороны, записки Дневника регулярно прерывают и без того запутанное романное повествование, замедляют развитие многочисленных сюжетных линий, фиксируют факультативные варианты развития действия, т. е. последовательно дискредитирует потенциальную целостность и завершенность повествования. Как пишет Герман Риц, «Дневник, так же, как и весь роман обладает и деструктивной и конструктивной функциями, причем одна тенденция никогда целиком не подчиняется другой» [86].
Нередко Дневник незаметно трансформируется в роман, роман, напротив, последовательно приближается по характеру повествования к дневнику или черновику (пропуски, многоточия, незаконченные фразы, планы-конспекты глав и пр.). Происходит взаимопроникновение текста Дневника и текста романа, а, как следствие, реальности и литературной фикции, в результате чего едва ли не треть собственно текста романа оказывается на страницах Дневника, причем реальные персонажи соседствуют с вымышленными, а вымышленные находят очевидные соответствия в реальности [87].
«Месиво» нередко интерпретируют как «роман с ключом», т. е. произведение, герои и события которого имеют реальные и, что немаловажно, узнаваемые прототипы. Вероятность такого прочтения не исключал и сам Анджеевский, который на страницах Дневника размышляет: «У меня нет ни малейших иллюзий в отношении разбойничьего характера сочинительства, и я не испытываю никаких угрызений совести, когда явно или неявно использую в книге реалии, связанные с ныне живущими людьми. Собственно, за много лет, в течение которых я пишу и публикуюсь, только два человека почувствовали себя задетыми: дипломат, которого уже нет в живых и который в свое время, обидевшись за жену, прислал мне гневное письмо, т.к. решил, что я сознательно и с недобрыми намерениями наделил его фамилией малосимпатичную особу женского пола в „Пепле и алмазе“; вторым был Витольд Гомбрович <…>, глубоко задетый одним из фрагментов „Идет, скачет по горам“, фрагментом — я это признаю — в котором я сознательно его провоцировал, и кроме этого понятном только для него самого и очень узкого круга особо догадливых читателей» (С.98).
В «Месиве» Анджеевский охотно и без утайки использует известные детали биографий и обыгрывает характерные внешние и поведенческие черты многих своих знакомых или коллег из варшавской артистической среды, имена которых были у всех на слуху.
Наиболее полную и детальную попытку «расшифровки» всех завуалированных подтекстов книги предприняла в своей статье, предваряющей последнее полное издание романа, Анна Сынорадзкая-Демадр[88]. По ее мнению в романе встречаются 3 типа персонажей:
- полностью вымышленные персонажи: Галина Ференс-Чаплицкая, Зофья Панек, Алиция Зингер и др.
- персонажи, напоминающие реальных лиц, но наделенные вымышленными именами: Адам Нагурский, Эрик Ванерт, Мацей Заремба, Лукаш Галицкий, Конрад Келлер и др.
- персонажи, представляющие реальных лиц под их реальными именами: Зыгмунт Мыцельский, Тадеуш Котрабиньский, Ярослав Ивашкевич, Адам Важик, Мария Домбровская, Болеслав Прус, Кшиштоф Пендерецкий и др.
Наиболее любопытный ряд представляет собой, вне всякого сомнения, вторая группа персонажей, т.к. открывает неограниченные возможности для поиска новых (тайных) смыслов и интерпретаций.
Самым ярким узнаваемым образом из второй группы является Адам Нагурский, который, как мы уже подробно писали выше, «копирует» в романе многие черты самого Анджеевского.
Театральный режиссер Роман Горбатый недвусмысленно напоминает Казимежа Деймека, автора скандально известной постановки «Дзядов».
Прототипом актера Конрада Келлера, скорее всего, является знаменитый актер Густав Голоубек, (именно шумная свадьба Голоубека с актрисой Майей Ваховяк, состоявшаяся в свое время в Яблонне, подтолкнула Анджеевского к созданию некоторых эпизодов романа) [89].
Мацей Заремба, «звезда» тогдашнего кинематографа, исполнитель главной роли в фильме по сценарию Адама Нагурского «Вдохновение мира», кумир и образец для подражания молодежи, безусловно, является романным отражением великолепного актера Збигнева Цыбульского, прославившегося благодаря роли Мачека Хелмицкого в экранизации романа Анджеевского «Пепел и алмаз». Стоит отметить, что в редакции «Месива» 1966 года еще ничто не предвещало скорого заката карьеры Зарембы (в той версии — Войцеха Бельского), как никто тогда не мог предвидеть трагической гибели Цыбульского в 1967 году под колесами поезда на Вроцлавском вокзале.
В окончательную редакцию романа Анджеевский добавил несколько новых сцен с участием Зарембы, в том числе эпизод его гибели (Заремба разбивается на автомобиле), а также сцены, представляющие диалоги Зарембы с активно теснящим его со сцены молодым актером Лукашем Галицким (прототип — Даниэль Ольбрыхский) и режиссером Генриком Ванертом, в котором без труда угадываются черты близкого друга и соратника Анджеевского режиссера Анджея Вайды.
В романе встречается также ряд персонажей, «идентифицировать» которых уже не под силу рядовому читателю, для установления их прототипов необходимо более или менее подробное знание биографии автора, его близкого окружения. К числу таких персонажей относится образ Nike, о котором мы писали выше, сочетающий в себе черты сразу двух реально существовавших людей, а также образы некоторых других героев, за которыми оказались «закомуфлированы» друзья, увлечения и симпатии автора «Месива».
В образе Антека Рашевского Анджеевский увековечил своего молодого друга Антония Либеру. Алиция Стамировская, дочь профессора Генрика Ванерта, напоминает первую жену Анджеевского Нону-Барбару Секежиньскую, брак с которой продлился всего год. Молодой поэт Кшиштоф Чаплицкий, погибший во время Варшавского восстания, без сомнения, отражает в романе судьбу поэта Кшиштофа Бачиньского, портрет которого Анджеевский до конца своих дней хранил на письменном столе, и которого, по воспоминаниям современников, называл «самой большой любовью своей жизни».
Информация о путях становления образов тех или иных героев, а также об их реальных прототипах не раз встречается в Дневнике. Например, об образе режиссера Эрика Ванерта Анджеевский пишет: «Воодушевленный <…> сценой с подсвечниками я хотел позвонить Анджею Вайде, однако мне пришло в голову, что подобную идею мог бы использовать двойник Анджея в „Месиве“, т. е. Эрик Ванерт» (С.57).
Дневник в «Месиве» так же, как и заметки из цикла литературных дневников и воспоминаний Анджеевского, опубликованные позже в двух книгах — «Изо дня в день. Литературный дневник 1972−1979» («Z dnia na Dzień. Dziennik literacki 1972−1979», книжное издание 1988) и «Игра с тенью» («Gra z cieniem», 1987), включает в себя несколько основных тематических составляющих. Наряду с подробностями повседневной жизни, такими, как встречи с друзьями, заметки о здоровье или погоде, впечатления от прочитанного, писатель всесторонне освещает историю создания произведения, над которым в данный момент работает, нередко как бы проводит ревизию уже написанного текста: комментирует некоторые из своих приемов, редактирует законченные эпизоды и сцены, схематически намечает те, которые не были и уже, скорее всего, не будут написаны.
Таким образом, внутри Дневника в «Месиве» можно выделить, как это делает в своей работе «Функции дневника в прозе Е. Анджеевского» польский критик Э. Кузьма[90], три функционально различные тематические разновидности:
1. интимный дневник (dziennik intymny),
2. литературный дневник (dziennik literacki),
3. дневник читателя (dziennik lektur).
Остановимся на них подробнее.
1
Интимный дневник повествует о различных аспектах частной жизни автора, его душевных переживаниях, эмоциональных и интеллектуальных состояниях. Это самая привычная и одновременно наиболее парадоксальная из известных разновидностей дневниковой прозы. Парадокс заключается в беспрецедентном слиянии двух, казалось бы, взаимоисключающих величин: интимности, т. е. сугубой приватности, сокровенности повествования, и намеренной публичности, a priori подразумевающий свидетеля в лице читателя.
Степень открытости и раскрепощения, которую Анджеевский демонстрирует в Интимном дневнике, исчерпывающе отражает формулировка Терезы Валас — «автобиографический эксгибиционизм» [91]. Писатель находит возможным в мельчайших подробностях осветить различные моменты своего приватного существования — от профилактики зубной боли, предпринятой в виде ковыряния иглой в зубном нерве, до шокирующих откровений интимного свойства и скандальных политических разоблачений.
Повествователь Интимного дневника, пользуясь полной свободой жанра, не разграничивает события на важные и неважные, ценные для понимания текста и скорее избыточные, частные и глобальные, а только фиксирует те или иные факты, которые по каким-то (не всегда известным и понятным читателю причинам) показались ему достойными упоминания.
Этот прием, получивший особое распространение и ставший предметом критического осмысления, главным образом, в эпоху постмодернизма, закрепился в литературе и изобразительном искусстве конца ХХ века как «принцип нонселекции» (термин Доуве Фоккемы). И. П. Ильин так раскрывает суть этого приема, выдвинутого Фоккемой в качестве основного принципа организации постмодернистского текста: «Принцип нонселекции выступает как последовательное смешение явлений и проблем разного уровня, уравновешивание в своей значимости совершенно незначительного и существенно проблемного, перетасовка причины и следствия, предпосылки и вывода» [92].
Как следствие, в тексте происходит смещение смысловой и ценностной иерархии, а читателю вменяется самому структурировать информацию и принять решение, что является для него существенным, а что может быть упущено из виду. Если говорить словами Ильина, «принцип нонселекции фактически обобщает различные способы создания преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментированного дискурса о восприятии мира как разорванного, отчужденного, лишенного смысла, закономерности и упорядоченности» [93].
Степень открытости и раскрепощения, которую Анджеевский демонстрирует в Интимном дневнике, исчерпывающе отражает формулировка Терезы Валас — «автобиографический эксгибиционизм» [91]. Писатель находит возможным в мельчайших подробностях осветить различные моменты своего приватного существования — от профилактики зубной боли, предпринятой в виде ковыряния иглой в зубном нерве, до шокирующих откровений интимного свойства и скандальных политических разоблачений.
Повествователь Интимного дневника, пользуясь полной свободой жанра, не разграничивает события на важные и неважные, ценные для понимания текста и скорее избыточные, частные и глобальные, а только фиксирует те или иные факты, которые по каким-то (не всегда известным и понятным читателю причинам) показались ему достойными упоминания.
Этот прием, получивший особое распространение и ставший предметом критического осмысления, главным образом, в эпоху постмодернизма, закрепился в литературе и изобразительном искусстве конца ХХ века как «принцип нонселекции» (термин Доуве Фоккемы). И. П. Ильин так раскрывает суть этого приема, выдвинутого Фоккемой в качестве основного принципа организации постмодернистского текста: «Принцип нонселекции выступает как последовательное смешение явлений и проблем разного уровня, уравновешивание в своей значимости совершенно незначительного и существенно проблемного, перетасовка причины и следствия, предпосылки и вывода» [92].
Как следствие, в тексте происходит смещение смысловой и ценностной иерархии, а читателю вменяется самому структурировать информацию и принять решение, что является для него существенным, а что может быть упущено из виду. Если говорить словами Ильина, «принцип нонселекции фактически обобщает различные способы создания преднамеренного повествовательного хаоса, фрагментированного дискурса о восприятии мира как разорванного, отчужденного, лишенного смысла, закономерности и упорядоченности» [93].
2
Дневник читателя в «Месиве» составляет интертекстуальное поле романа. Выше уже говорилось об особом значении, которое, вне всяких сомнений, придает Анджеевский самому процессу чтения. В «Месиве» читают все: много и охотно читают герои романа (письма, лекции, стихи, сценарии, книги), читает porte-parole Анджеевского писатель Адам Нагурский, читает повествователь в Дневнике, тщательно резюмируя, обсуждая, оценивая прочитанное, и — на наиболее высоком уровне — читает свой недописанный роман сам автор — читает, правит, высказывает недовольство или удовлетворение по поводу написанного-прочитанного.
Как пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «„Месиво“ становится книгой о читающем писателе. Приобретает форму безграничного мешка — огромного коллажа цитат» [94].
Анджеевский сам отмечал эту особенность своего романа и выражал беспокойство по этому поводу: «Не слишком ли много читающих? Нагурский читает. Антек Рашевский читает, потому что я уже решил, что он должен прочитать свое эссе матери. Наконец, Эрик Ванерт читает. Слишком много? Слегка все это наигранно? Ситуации, придуманные только затем, чтобы скрыть навязчивость, с которой автор хочет продемонстрировать уже приготовленные тексты? Возможно. Но только — возможно» (С.344).
Отдельного внимания заслуживает выбор книг и обширных цитат из них, составляющий в «Месиве» основной предмет Дневника читателя.
«Круг чтения» Анджеевского как повествователя в читательском дневнике далеко не является хаотическим или случайным. Комментируемые тексты подобраны с четкой и вполне очевидной целью: при помощи разнообразных историко-культурных аллюзий составить внушительный мета-контекст роману.
В книге, в которой тема власти занимает одно из ключевых мест, повествователь читает и многократно цитирует «Облик Третьего Рейха» И. Феста, «Порабощение Перу» У. Прескотта, «Историю Византиии» Г. Острогорского, «Европу и разделы Польши» М. Серейского, «Лукасиньского» Ш. Аскенази, комментарии к произведениям Беккендорфа, Тютчева, Достоевского, Карамзина и др., т. е. тексты, которые, так или иначе, затрагивают столь волнующие его вопросы становления тоталитаризма (и в целом систем, основанных на авторитарной власти), польско-российских отношений, переломных моментов истории родной страны.
Можно также предположить, что использование в «Месиве» многочисленных обширных цитат, (многие из них занимают не меньше листа печатного текста), и разнообразных реминисценций из прочитанных книг имеет под собой вполне практическое обоснование: писатель как бы скрывается за чужим — уже опубликованным, а стало быть, неподконтрольным — текстом, стремясь хотя бы отчасти решить проблему вездесущей цензуры.
Как пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «„Месиво“ становится книгой о читающем писателе. Приобретает форму безграничного мешка — огромного коллажа цитат» [94].
Анджеевский сам отмечал эту особенность своего романа и выражал беспокойство по этому поводу: «Не слишком ли много читающих? Нагурский читает. Антек Рашевский читает, потому что я уже решил, что он должен прочитать свое эссе матери. Наконец, Эрик Ванерт читает. Слишком много? Слегка все это наигранно? Ситуации, придуманные только затем, чтобы скрыть навязчивость, с которой автор хочет продемонстрировать уже приготовленные тексты? Возможно. Но только — возможно» (С.344).
Отдельного внимания заслуживает выбор книг и обширных цитат из них, составляющий в «Месиве» основной предмет Дневника читателя.
«Круг чтения» Анджеевского как повествователя в читательском дневнике далеко не является хаотическим или случайным. Комментируемые тексты подобраны с четкой и вполне очевидной целью: при помощи разнообразных историко-культурных аллюзий составить внушительный мета-контекст роману.
В книге, в которой тема власти занимает одно из ключевых мест, повествователь читает и многократно цитирует «Облик Третьего Рейха» И. Феста, «Порабощение Перу» У. Прескотта, «Историю Византиии» Г. Острогорского, «Европу и разделы Польши» М. Серейского, «Лукасиньского» Ш. Аскенази, комментарии к произведениям Беккендорфа, Тютчева, Достоевского, Карамзина и др., т. е. тексты, которые, так или иначе, затрагивают столь волнующие его вопросы становления тоталитаризма (и в целом систем, основанных на авторитарной власти), польско-российских отношений, переломных моментов истории родной страны.
Можно также предположить, что использование в «Месиве» многочисленных обширных цитат, (многие из них занимают не меньше листа печатного текста), и разнообразных реминисценций из прочитанных книг имеет под собой вполне практическое обоснование: писатель как бы скрывается за чужим — уже опубликованным, а стало быть, неподконтрольным — текстом, стремясь хотя бы отчасти решить проблему вездесущей цензуры.
3
Литературный дневник – несомненно, наиболее сложная и любопытная форма метафикциональной прозы, позволяющая непосвященным (читателям) заглянуть в «святая святых» – творческую лабораторию художника, увидеть полностью весь инструментарий «отделки» художественного текста, непосредственно приобщиться к процессу его создания. Такой подход становится основополагающим для современных писателей, особенно писателей-постмодернистов, выступающих как теоретики собственного творчества. Как пишет И.П. Ильин, «специфика этого искусства такова, что оно просто не может существовать без авторского комментария. Все то, что называется “постмодернистским романом”… непременно включает в себя весьма пространные рассуждения о самом процессе написания произведения» [95].
Антимиметизм, т.е. обнажение «вымышленной», фикцийной природы текста через разрушение предварительно созданного эффекта правдоподобия – одно из важнейших художественных открытий метапрозы. Если до сих пор достоинство литературного произведения определялось в первую очередь степенью его «истинности», т.е. прямого соответствия окружающему миру, похожести на него, то метафикциональная литература отказывается от «наивного иллюзионизма», предполагающего, что текст является подражанием (или продолжением) внетекстовой реальности.
В Литературном дневнике находит место «обнажение приема», переносящее акцент с воспроизведения объектов внешней действительности, на факт искусственности текста, его «сделанности» согласно законам жанра или намерениям автора. Анджеевский не только вскрывает механизмы работы творческой фантазии автора, но и детально фиксирует все этапы работы над материалом. Записи Литературного дневника выполняют целый ряд функций:
В некоторых местах границы между текстом Дневника и собственно текстом романа почти полностью размываются, порождая эффект текстовой нестабильности, расшатывающей безотчетное читательское убеждение в прочности окружающей действительности и ее законов. С этой целью используется прием амплификации – нагромождения альтернативных вариантов развития действия без разъяснения, какой из них следует считать окончательным: «В этой ситуации монолог Нагурского может быть более или менее следующим: Ты моя болезнь, я тебя полюбил, чтобы… или: Послушай, тогда, когда я вернулся под вечер…» (С.313).
Литературный дневник как никакой другой элемент поэтики «Месива», нарушает принцип эстетико-смысловой автономии и связности текста, до предела обостряя те непростые отношения, в которых пребывают автор и текст, автор и его герои, автор и читатель.
Говоря о функциях дневника в прозе Ежи Анджеевского, Э.Кузьма замечает: «Форма дневника разбивает исчерпавшие себя романные приемы, уничтожает единство времени, ведет к “открытому произведению” – а все это представляется отличительными чертами новой литературы»[96].
Антимиметизм, т.е. обнажение «вымышленной», фикцийной природы текста через разрушение предварительно созданного эффекта правдоподобия – одно из важнейших художественных открытий метапрозы. Если до сих пор достоинство литературного произведения определялось в первую очередь степенью его «истинности», т.е. прямого соответствия окружающему миру, похожести на него, то метафикциональная литература отказывается от «наивного иллюзионизма», предполагающего, что текст является подражанием (или продолжением) внетекстовой реальности.
В Литературном дневнике находит место «обнажение приема», переносящее акцент с воспроизведения объектов внешней действительности, на факт искусственности текста, его «сделанности» согласно законам жанра или намерениям автора. Анджеевский не только вскрывает механизмы работы творческой фантазии автора, но и детально фиксирует все этапы работы над материалом. Записи Литературного дневника выполняют целый ряд функций:
- заполняют пробелы в фабуле,
- содержат авторские комментарии к тексту (что необходимо поправить, доделать, видоизменить),
- дают информацию об авторских сомнениях или явных, уже допущенных и отмеченных писателем оплошностях,
- представляют первоначальные черновые варианты тех или иных разделов и сцен, которые впоследствии были заново отработаны в собственно тексте романа либо так и не были реализованы.
В некоторых местах границы между текстом Дневника и собственно текстом романа почти полностью размываются, порождая эффект текстовой нестабильности, расшатывающей безотчетное читательское убеждение в прочности окружающей действительности и ее законов. С этой целью используется прием амплификации – нагромождения альтернативных вариантов развития действия без разъяснения, какой из них следует считать окончательным: «В этой ситуации монолог Нагурского может быть более или менее следующим: Ты моя болезнь, я тебя полюбил, чтобы… или: Послушай, тогда, когда я вернулся под вечер…» (С.313).
Литературный дневник как никакой другой элемент поэтики «Месива», нарушает принцип эстетико-смысловой автономии и связности текста, до предела обостряя те непростые отношения, в которых пребывают автор и текст, автор и его герои, автор и читатель.
Говоря о функциях дневника в прозе Ежи Анджеевского, Э.Кузьма замечает: «Форма дневника разбивает исчерпавшие себя романные приемы, уничтожает единство времени, ведет к “открытому произведению” – а все это представляется отличительными чертами новой литературы»[96].
Необычная, а кто-то скажет — необычайная, форма романа вызвала и продолжает вызывать оживленные дискуссии в критике. Одним из наиболее спорных и часто обсуждаемых вопросов остается проблема соотношения поэтики романа Анджеевского с постмодернистской парадигмой художественности. Можно ли рассматривать «Месиво» как постмодернистский роман? Или хотя бы как пре-пост-модернистский [97]?
Очевидно, что Анджеевский не ставил, да и не мог поставить себе целью написать постмодернистский роман. И все же у любого более или менее информированного читателя книга оставляет впечатление, что ее автор использовал все приемы каждого постмодернисткого писателя, которого он читал, и многих из тех, которых не читал никогда.
Текст романа демонстрирует поразительную близость эстетическим параметрам постмодернизма: здесь и нарушение связанности (когерентности) повествования, и повествовательная прерывистость (дискретность), и эффект «информационного шума», т. е. назойливая описательность, избыточность деталей, затрудняющая целостное восприятие текста, и гипертекстуальность, и сугубо постмодернистский принцип «нониерархии», понимаемый как отказ от преднамеренного отбора (селекции) лингвистических или иных элементов во время создания текста, и метафикицональность, и литературная игра, основанная на пародии и самопародии, и многое другое, о чем уже шла речь выше.
С другой стороны, стремление автора к систематическому осмыслению и упорядочиванию реальности, его укорененность в национальных проблемах и мифах, а также своего рода «моральная ангажированность», свойственная всему творчеству Анджеевского, отвергают, казалось бы, саму мысль о постмодернисткой природе романа.
Переходное положение «Месива» достаточно четко было зафиксировано критиками, писавшими о нем.
Традиционалистская критика 1970−80-ых годов упрекала роман в незаконченности, недоделанности, искусственности, излишней приверженности литературной игре в ущерб жизни, в то время как современные исследователи, искушенные в области разнообразных литературных экспериментов, вменяют в вину автору «Месива» вторичность и ограниченность, указывая, что предпринятая Анджеевским деконструкция эпики не выходит за рамки «бархатной революции», осуществившейся в прозе 1930-ых годов [98].
Те же упреки (и едва ли не в то же время) были адресованы в русской (и советской) критике роману Андрея Битова «Пушкинский дом», о чем подробно пишет в своей монографии Марк Липовецкий. Сопоставление рецепции этих текстов, на наш взгляд, позволяет глубже понять феномен постмодерниского звучания «Месива».
При ближайшем рассмотрении последний роман Анджеевского и книга Битова, законченные, к слову, в одном и том же 1971 году, обнаруживают исключительное сходство, далеко выходящее за рамки описания одного исторического времени (рубеж 1960−70-ых годов) в более или менее одинаковых социокультурных условиях.
Анджеевский и Битов в разных странах и на разных языках пишут по-своему и о своем, но это «свое» оказывается на удивление общим для обоих писателей.
Форма «романа-музея», выбранная Битовым, как никакая другая близка форме «романа-месива», которую использует Анджеевский, а идея варварского разгрома музея русской культуры, как и его поспешного восстановления, показанная в «Пушкинском доме», во многом перекликается с идеей описания польской свадьбы, «которой не будет», в «Месиве», (в основе обоих сюжетов лежит идея деконструкции определенной модели культуры).
Главные герои обеих книг имеют непосредственное отношение к литературе (Адам Нагурский — литератор, Лева Одоевцев — литературовед), причем тексты обоих романов включаю в себя большие фрагменты их произведений (статьи Одоевцева, рассказы Нагурского), что позволяет Анджевскому и Битову анализировать и тематизировать сам процесс литературного творчества.
Рефлексии на литературоведческие темы регулярно предаются и повествователи «Месива» и «Пушкинского дома», являющиеся романными двойниками автора-творца.
Наконец, оба писателя сосредотачивают свое внимание на социо-психологических пороках поколения 60-ых, которое только внешне противостоит тоталитарной ментальности, а в действительности комформистски наследует тоталитарную модель культуры.
Но это не все или, во всяком случае, не главное, что объединяет два романа. Главное — это впервые предпринятое в художественной литературе обеих стран осознание и осмыслениеизвращенной реальности тоталитарной культуры, едва ли не полностью отождествившей жизнь с идеологическими мифологемами.
Марк Липовецкий пишет о романе Битова «Пушкинский дом»: «Важнейшее открытие Битова видится в том, что он задолго до Бодрийяра и его последователей выявил симуляттивный характер советской ментальности, симулятивность советской культуры, т. е. доминирование фантомных конструкций, образов без реальных соответствий, копий без оригиналов <…> В сущности, именно в „Пушкинском доме“ впервые происходит — или, вернее, фиксируется — этот радикальнейший поворот мировосприятия — пожалуй, важнейшее из последствий „оттепели“. Только с этого момента и может начинаться отсчет постмодернистского времени» [99].
То же самое (и даже сверх того) с полным основанием можно сказать о романе Анджеевского «Месиво». «Месиво» есть роман-симуляция. Осознание симулятивного характера тоталитарной реальности осуществляется во всех 3-х выделенных М. М. Бахтиным «ценностных контекстах» романа: контексте автора-творца, контексте автора-повествователя и контексте героя [100].
Герой романа писатель Нагурский симулирует муки творчества, повествователь — лукаво симулирует сюжет о свадьбе, наконец, в основе конструкции книги лежит симуляция усилий автора-творца написать «настоящий», большой роман о современной действительности, усилий тщетных хотя бы потому, что сама действительность сопротивляется систематизации и упорядоченному восприятию.
Повествователь в Дневнике размышляет: «Отсутствие чувства суверенности подвергает деградации в равной степени и личность и общество, потому что только в условиях осознанной суверенности может существовать и действовать осознанная человеческая ответственность, с ее распадом и угасанием распадается и угасает всякий моральный порядок, проступок может стать заслугой, достижение — преступлением, среди виновников нет виновных, глупость ходит в короне ума, цинизм — в маске рвения, честность и мудрость дожидаются, чтобы их публично заклеймили. И из этого морального месива должно появиться великое искусство?» (С. 498).
Анджеевский и Битов одновременно и независимо друг от друга идут по пути противопоставления официальной социалистической догматики («тоталитарной „литературщины“» [101]), подменившей собой жизнь, и высокого искусства — подлинной литературы, ассоциируемой с настоящей жизнью. Для Битова этой подлинной, «твердой» реальностью, становится русская литературная классика от Пушкина до Набокова, для поляка-Анджеевского — Мицкевич, Выспяньский, Гомбрович.
Проза Битова и Анджеевского это не только и не столько проза о прозе, (как было в метапрозе 1920−30-ых годов), это проза, противопоставленная самой жизни, проза оневозможности жизни вне прозы. Если «в метапрозе исходом был сам прочитанный нами текст — как онтологический поступок. У Битова (как и у Анджеевского — А.С.) исходом оказывается невозможность создания такого текста…» [102]. Оба писателя стремились средствами метапрозы восстановить разрушенную тоталитарной культурой связь с модернистской традицией, оба пришли к осознанию неосуществимости такого рода попыток.
Вероятно, именно это вызывает в романах Анджеевского и Битова качественно новый — постмодернисткий — эффект.
Трудно не согласиться с Марком Липовецким, который утверждает, что создаваемая в «Пушкинском доме» художественная структура носит «вынужденно постмодернистский характер», т.к. «невозможность осуществления собственно модернистских путей преодоления духовной несвободы толкает автора „Пушкинского дома“ на совмещение сугубо модернистских подходов с постмодернистскими исходами» [103].
Эта концепция, на наш взгляд, как нельзя лучше объясняет феномен «Месива». «Вынужденно-постмодернистская» природа последнего романа Анджеевского напрямую проистекает из особенностей ситуации, сложившейся в Польше рубежа 1960−70-ых годов, которую лучше и раньше других сумел почувствовать и отрефлекировать именно Анджеевский.
Новый опыт, как жизненный, так и художественный, синтезированный Анджеевским в его последнем романе, представляет собой сегодня неоценимый материал не только для исследования эволюции творческого мировоззрения писателя, но и в целом метаморфоз, каким «подверглась романная проза ХХ века» [104].
Очевидно, что Анджеевский не ставил, да и не мог поставить себе целью написать постмодернистский роман. И все же у любого более или менее информированного читателя книга оставляет впечатление, что ее автор использовал все приемы каждого постмодернисткого писателя, которого он читал, и многих из тех, которых не читал никогда.
Текст романа демонстрирует поразительную близость эстетическим параметрам постмодернизма: здесь и нарушение связанности (когерентности) повествования, и повествовательная прерывистость (дискретность), и эффект «информационного шума», т. е. назойливая описательность, избыточность деталей, затрудняющая целостное восприятие текста, и гипертекстуальность, и сугубо постмодернистский принцип «нониерархии», понимаемый как отказ от преднамеренного отбора (селекции) лингвистических или иных элементов во время создания текста, и метафикицональность, и литературная игра, основанная на пародии и самопародии, и многое другое, о чем уже шла речь выше.
С другой стороны, стремление автора к систематическому осмыслению и упорядочиванию реальности, его укорененность в национальных проблемах и мифах, а также своего рода «моральная ангажированность», свойственная всему творчеству Анджеевского, отвергают, казалось бы, саму мысль о постмодернисткой природе романа.
Переходное положение «Месива» достаточно четко было зафиксировано критиками, писавшими о нем.
Традиционалистская критика 1970−80-ых годов упрекала роман в незаконченности, недоделанности, искусственности, излишней приверженности литературной игре в ущерб жизни, в то время как современные исследователи, искушенные в области разнообразных литературных экспериментов, вменяют в вину автору «Месива» вторичность и ограниченность, указывая, что предпринятая Анджеевским деконструкция эпики не выходит за рамки «бархатной революции», осуществившейся в прозе 1930-ых годов [98].
Те же упреки (и едва ли не в то же время) были адресованы в русской (и советской) критике роману Андрея Битова «Пушкинский дом», о чем подробно пишет в своей монографии Марк Липовецкий. Сопоставление рецепции этих текстов, на наш взгляд, позволяет глубже понять феномен постмодерниского звучания «Месива».
При ближайшем рассмотрении последний роман Анджеевского и книга Битова, законченные, к слову, в одном и том же 1971 году, обнаруживают исключительное сходство, далеко выходящее за рамки описания одного исторического времени (рубеж 1960−70-ых годов) в более или менее одинаковых социокультурных условиях.
Анджеевский и Битов в разных странах и на разных языках пишут по-своему и о своем, но это «свое» оказывается на удивление общим для обоих писателей.
Форма «романа-музея», выбранная Битовым, как никакая другая близка форме «романа-месива», которую использует Анджеевский, а идея варварского разгрома музея русской культуры, как и его поспешного восстановления, показанная в «Пушкинском доме», во многом перекликается с идеей описания польской свадьбы, «которой не будет», в «Месиве», (в основе обоих сюжетов лежит идея деконструкции определенной модели культуры).
Главные герои обеих книг имеют непосредственное отношение к литературе (Адам Нагурский — литератор, Лева Одоевцев — литературовед), причем тексты обоих романов включаю в себя большие фрагменты их произведений (статьи Одоевцева, рассказы Нагурского), что позволяет Анджевскому и Битову анализировать и тематизировать сам процесс литературного творчества.
Рефлексии на литературоведческие темы регулярно предаются и повествователи «Месива» и «Пушкинского дома», являющиеся романными двойниками автора-творца.
Наконец, оба писателя сосредотачивают свое внимание на социо-психологических пороках поколения 60-ых, которое только внешне противостоит тоталитарной ментальности, а в действительности комформистски наследует тоталитарную модель культуры.
Но это не все или, во всяком случае, не главное, что объединяет два романа. Главное — это впервые предпринятое в художественной литературе обеих стран осознание и осмыслениеизвращенной реальности тоталитарной культуры, едва ли не полностью отождествившей жизнь с идеологическими мифологемами.
Марк Липовецкий пишет о романе Битова «Пушкинский дом»: «Важнейшее открытие Битова видится в том, что он задолго до Бодрийяра и его последователей выявил симуляттивный характер советской ментальности, симулятивность советской культуры, т. е. доминирование фантомных конструкций, образов без реальных соответствий, копий без оригиналов <…> В сущности, именно в „Пушкинском доме“ впервые происходит — или, вернее, фиксируется — этот радикальнейший поворот мировосприятия — пожалуй, важнейшее из последствий „оттепели“. Только с этого момента и может начинаться отсчет постмодернистского времени» [99].
То же самое (и даже сверх того) с полным основанием можно сказать о романе Анджеевского «Месиво». «Месиво» есть роман-симуляция. Осознание симулятивного характера тоталитарной реальности осуществляется во всех 3-х выделенных М. М. Бахтиным «ценностных контекстах» романа: контексте автора-творца, контексте автора-повествователя и контексте героя [100].
Герой романа писатель Нагурский симулирует муки творчества, повествователь — лукаво симулирует сюжет о свадьбе, наконец, в основе конструкции книги лежит симуляция усилий автора-творца написать «настоящий», большой роман о современной действительности, усилий тщетных хотя бы потому, что сама действительность сопротивляется систематизации и упорядоченному восприятию.
Повествователь в Дневнике размышляет: «Отсутствие чувства суверенности подвергает деградации в равной степени и личность и общество, потому что только в условиях осознанной суверенности может существовать и действовать осознанная человеческая ответственность, с ее распадом и угасанием распадается и угасает всякий моральный порядок, проступок может стать заслугой, достижение — преступлением, среди виновников нет виновных, глупость ходит в короне ума, цинизм — в маске рвения, честность и мудрость дожидаются, чтобы их публично заклеймили. И из этого морального месива должно появиться великое искусство?» (С. 498).
Анджеевский и Битов одновременно и независимо друг от друга идут по пути противопоставления официальной социалистической догматики («тоталитарной „литературщины“» [101]), подменившей собой жизнь, и высокого искусства — подлинной литературы, ассоциируемой с настоящей жизнью. Для Битова этой подлинной, «твердой» реальностью, становится русская литературная классика от Пушкина до Набокова, для поляка-Анджеевского — Мицкевич, Выспяньский, Гомбрович.
Проза Битова и Анджеевского это не только и не столько проза о прозе, (как было в метапрозе 1920−30-ых годов), это проза, противопоставленная самой жизни, проза оневозможности жизни вне прозы. Если «в метапрозе исходом был сам прочитанный нами текст — как онтологический поступок. У Битова (как и у Анджеевского — А.С.) исходом оказывается невозможность создания такого текста…» [102]. Оба писателя стремились средствами метапрозы восстановить разрушенную тоталитарной культурой связь с модернистской традицией, оба пришли к осознанию неосуществимости такого рода попыток.
Вероятно, именно это вызывает в романах Анджеевского и Битова качественно новый — постмодернисткий — эффект.
Трудно не согласиться с Марком Липовецким, который утверждает, что создаваемая в «Пушкинском доме» художественная структура носит «вынужденно постмодернистский характер», т.к. «невозможность осуществления собственно модернистских путей преодоления духовной несвободы толкает автора „Пушкинского дома“ на совмещение сугубо модернистских подходов с постмодернистскими исходами» [103].
Эта концепция, на наш взгляд, как нельзя лучше объясняет феномен «Месива». «Вынужденно-постмодернистская» природа последнего романа Анджеевского напрямую проистекает из особенностей ситуации, сложившейся в Польше рубежа 1960−70-ых годов, которую лучше и раньше других сумел почувствовать и отрефлекировать именно Анджеевский.
Новый опыт, как жизненный, так и художественный, синтезированный Анджеевским в его последнем романе, представляет собой сегодня неоценимый материал не только для исследования эволюции творческого мировоззрения писателя, но и в целом метаморфоз, каким «подверглась романная проза ХХ века» [104].
ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы «второго круга обращения» // Политика и поэтика. (сб. статей) М., 2000. С. 10.
[2] Здесь и далее, если нет специальных оговорок, написание слова «Дневник» с прописной буквы будет означать, что речь идет об авторском дневнике, включенном в структуру романа «Месиво».
[3] В Дневнике, включенном в текст романа, Агнджеевский упоминает следующие варианты названия, которые он в разное время планировал присвоить книге: Czary moje moc straciły, Delegacja służbowa, Gorzki pląs, Ta wierzba jest moja. (Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002. S.26).
[4] Cловарь польского языка под редакцией проф. М. Шимчака определяет значение слова miazga следующим образом: «Бесформенная, вязкая масса, образовавшаяся, как правило, в результате разбития, выжимки, измельчения чего-либо или кого-либо». (Słownik języka polskiego, red. nauk. Szymczak M. Warszawa, 1979. T.2. S.152). В русскоязычной критике нет единого мнения на счет перевода названия романа Анджеевского. В. А. Хорев и вслед за ним И. Адельгейм предлагают перевод «Крошево». Киевская исследовательница В. Ведина использует название «Мезгá». Название «Месиво», которого мы придерживаемся в настоящей работе, впервые было использовано В. Британишским в предисловии к двухтомному собранию сочинений Ежи Анджеевского на русском языке (Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.1), а позже в статье Е. З. Цыбенко «Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная проза» (Славяноведение, 1995. № 5). На английский язык название романа было переведено как «Pulp».
[5] Czerwony system pogardy. Rozmowa z J. Andrzejewskim // Trznadel J. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin, 1990. S.81
[6] Британишский В. Указ.соч. С. 22.
[7] Коpeć Z. «Miazga». Postmodernizm. Sprawa polska. // Postmodernizm po polsku? Łódź, 1998. S.90.
[8] Коpeć Z. Op. cit. S.90.
[9] Достаточно вспомнить упоминавшийся выше эпизод «творческого тупика», в котором Анджеевский признавался в предисловии к изданию фрагментов книги в «Твурчости».
[10] Burek T. Tak długa nieobecność. Głosa o «Miazdze» // Burek T. Żadnych marzeń. Warszawa, 1989. S.191.
[11] Dąbrowski M. Literatura polska 1945−1995. Warszawa, 1997. S.232.
[12] Ibidem.
[13] Detka J. Przemiany poetyki Jerzego Andrzejewskiego. Kielce, 1995. S. 188.
[14] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М. 2000. С. 40.
[15] См. об этом подробнее: Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli o walce z szatanem // Pismo. 1983. № 3; Walas T. Paradoksy «Miazgi» Jerzego Andrzjewskiego // Lektury polonistyczne. Literatura współczesna (red. J. Jarzębski i R. Nycz). Kraków, 1997. T.1.
[16] Walas T. Paradoksy «Miazgi»… S.300.
[17] Burek T. Op. cit. S.187.
[18] Первоначально действие романа должно было разворачиваться 14−15 мая 1965 года, (во второй редакции — 14−15 мая 1969), но впоследствии Анджеевский передвинул дату событий на апрель. На страницах романа повествователь неоднократно упоминает эту путаницу с датами, объясняя перенос свадьбы на более ранний срок необходимостью молодоженов в мае посвятить все свое время работе над новым спектаклем («Макбет»). В действительности Анджеевский сознательно передвинул дату действия романа с 14 мая на 19 апреля — день рождения Антония Либеры (в те годы студента Варшавского Университета, а ныне известного литератора и литературоведа), как пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «в знак благодарности молодому критику и на память о совместной работе» (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. CVI). Это подтверждает и сам Либера в эссе, посвященном «Месиву» (Либера А. Два эссе. Свадьба, которой не было (О «Месиве» Ежи Анджеевского") // Иностранная литература, 2006, № 8). В 1969 году Либера выслал Анджеевскому письмо, в котором выражал свое восхищение его творчеством и мужеством, проявленным в общественной жизни. Между студентом и писателем завязалась оживленная переписка, предметом которой была и концепция «Месива». (Подробнее о переписке Либеры и Анджеевского см: Synoradzka-Demadre A. Op.cit. SS. LVII-LIX, Либера А. Указ. соч. сс. 280−283). Позже первое письмо Либеры Анджеевский включил в текст романа как письмо Антека Рашевского, адресованное Адаму Нагурскому, а в самом образе Антека запечатлел немало узнаваемых черт своего молодого друга.
[19] А. Сынорадзкая-Демадр указывает также, что в такой композиции, порождающей аллюзии с конструкцией классической драмы (3 части: экспозиция, кульминация, развязка, единство времени, места и действия), также можно усмотреть очередную аллюзию на драму Выспяьского «Свадьба», создававшуюся согласно тем же принципам. (См.: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. XLVI).
[20] Насколько нам известно, сопоставление поэтик «Улисса» и «Месива» еще ни разу не становилось предметом исследования в критической литературе.
[21] Хорунжий С. Комментарий // Джойс Дж. Улисс. Спб., 2004. С. 683.
[22] Либера А. Указ. соч. С. 281.
[23] Drewnowski T. Próba scalenia. Obiegi. Wzorce. Style. Warszawa, 1997. S.265.
[24] О значении сцены свадьбы в романе Анджеевского см. в статье атвора дисертации: Савельева А. А. О поэтике романа Ежи Анджеевского «Месиво» (мотив свадьбы) // Вестник Московского университета. Серия «Филология», 2003, № 1.
[25] См. об этом, например, Мусиенко С. Указ.соч. С. 40.
[26] Хореев В. А. Достижения и потери… С. 10.
[27] Свой вклад в развитие этого мотива внес и сам Анджеевский — вспомним сцену банкета в «Монополе» из романа «Пепел и алмаз».
[28] Błażejewski T. Rękopis zagubiony w Stuttgarcie … S. 27.
[29] Błażejewski T. Op. cit. S.27.
[30] Nasiłowska A. Polskie wesela // Tematy i pryznaty. Studia o prozie polskiej XX wieku (pod red. Brodzkiej A. i Ziątka Z.). Wrocław, 2000. S.127.
[31] Оконьская А. Выспяньский. М., 1997. С. 135.
[32] О перекличках между «Месивом» Анджеевского и «Свадьбой» Выспяньского раньше и подробнее других писал польский критик М. Томашевский в своей статье «„Месиво“, современная символическая драма?» (Tomaszewski M. «Miazga"współczesnydramat symboliczny? // Zeszyty Literackie, 1983. № 3).
[33] Пастиш (от итальянского pasticcio — опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация) — специфическая форма постмодернистской пародии. Авторитетный американский теоретик Ф. Джеймсон охарактеризовал пастиш как основной модус постмодернистского искусства. По мысли И. П. Ильина, «иронический модус постмодернистского пастиша в первую очередь отличается негативным пафосом, направленным против иллюзионизма масс-медиа и массовой культуры». (См. об том подробнее: Ильин И. П. Указ соч. С.223).
[34] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XLIII.
[35] Теорию «возможных миров» применительно к материалу современной польской прозы подробно рассматривает в своей работе Анна Лебковская: Łеbkowska A. Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków, 1991.
[36] Wysłouch S. Problematyka symultanizmu w prozie. Poznań, 1981. S.78−79.
[37] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XLVIII.
[38] Концепция «открытого произведения» разрабатывалась учеными многих стран в основном в середине 1960-ых годов и получила свое наиболее авторитетное завершение в работах теоретика постмодернизма У.Эко. (См. об этом подробнее: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998).
[39] Ильин И. П. Постмодернизм от истоков… С. 186.
[40] Первую попытку проанализировать роман «Месиво» в категориях литературной игры предприняла Тереза Валас: Wałas T. O «Miazdze Jerzego Andrzejewskiego czyli…
[41] Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 435.
[42] Там же. С. 438.
[43] Эко У. Маятник Фуко. С-Пб., 1999. С. 158.
[44] Британишский В. Указ.соч. С. 22.
[45] PAP — Polska Agencja Prasowa (Польское управление прессы).
[46] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XXXVIII.
[47] Британишский В. Указ. соч. С. 23.
[48] Малгожата Черминьская называет это «автобиографическим следом», который намечает связь произведения с его автором и настраивает читателя на автобиографическую интерпретацию текста. (См. Об этом подробнее: Czermińska M. Autobiografia i powieść czyli autor i jego postacie. Gdańsk, 1987).
[49] Błażejewski T. Ор. сit. S.20.
[50] А. Сынорадзкая-Демадр полагает, что за образом девушки Nike в реальной действительности скрывался некий молодой человек Марек К., с которым у Анджеевского был роман во время написания первых фрагментов «Месива». Однако писатель не решился полностью дискредитировать образ Нагурского, приписав ему гомосексуальную связь. (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. CIII). Близкий писателю мотив однополой любви реализован в романе через описание любовной связи Ксаверия Панека с Мареком Кураном. Образ Ксаверия, как и образ Нагурского, во многом автобиографичен, именно ему писатель традиционно поручает произносить самые резкие, остро полемические, бескомпромиссные из своих суждений. В образе Марка Курана угадываются черты сразу двух реальных прототипов: все того же таинственного Марека К. и писателя-бунтаря Марека Хласко.
[51] Большинство критиков романа, напротив, склонны рассматривать образ Нагурского как «привилегированный» в системе персонажей книги. С. Мусиенко, в частности, пишет: «По сути, только один герой — alter ego автора — писатель Нагурский предстает честным и неподкупным, но он безнадежно одинок в мире коррупции и продажности. „Крошево“ — современный вариант художественного текста об интеллектуальных странствиях интеллигента по мукам» (Мусиенко С. Политические аллегории… С. 40). Похожую мысль высказывает и А. Сынорадзкая-Демадр: «Есть в романе герой, на котором сосредоточены все надежды, знаменитый писатель „среднего“ поколения Адам Нагурский. Он занимает в „Месиве“ привилегированное место человека-памятника — „мэтра“, божества с художественного Олимпа» (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. LXV).
[52] Łubieński T. «Miazga» po dziesięciu latach // Bohaterowie naszych czasów. Londyn, 1986. S.44.
[53] Мусиенко С. Указ.соч. С. 40. Стоит отметить, что в «Месиве», как и в других, более ранних произведениях Анджеевского, можно встретить немало явных или завуалированных отсылок к популярным романтическим текстам, скрытых аллюзий и микроцитат. Имя Конрад, которое Анджеевский выбирает для одного из главных героев своего романа, талантливого актера и несостоявшегося жениха Конрада Келлера, не может не вызвать параллелей с именем главного героя «Дзядов», тем более, что после скандального запрета спектакля в марте 1968 года драма Мицкевича в буквальном смысле была у всех на устах. В упоминавшемся выше сравнении поляков со скалой, которой не хватило спайки, также угадывается аллюзия со знаменитым «народ наш как лава…» из «Дзядов» Мицкевича.
[54] Synoradka-Demadre A. Op.cit. XLIII.
[55] Ibid. S.L.
[56] Synoradka-Demadre A. Op.cit. S.L.
[57] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы… С. 10.
[58] Wałas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli … S.61.
[59] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXIX.
[60] Drewnowski T. Op.cit. S.268.
[61] Мусиенко С. Указ.соч. С. 39.
[62] Анджеевский Е. Мрак покрывает землю // Анджеевский Е. Сочинения… Т. 2. С. 100.
[63] Этот эпизод, приписанный в «Месиве» биографии Нагурского, имел место в реальной действительности и приключился с самим Анджеевским в 1952 году на торжественном вечере по случаю юбилея Марии Домбровской. Еще до упоминания в «Месиве» вся история была описана в рассказе «Великий плач бумажной головы» (1953).
[64] Ильин И. П. Постструктурализм… С. 73.
[65] Там же.
[66] Цыбенко Е. З. Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная проза» // Славяноведение. 1995, № 5. С. 59.
[67] Этим в значительной степени объясняется отсутствие в «Месиве» ярких узнаваемых образов среди представителей политической элиты, в то время, как образы деятелей культуры и искусства в подавляющем большинстве случаев имеют реальные прототипы (вплоть до подробностей биографии).
[68] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXXII.
[69] Ibid. S.LXXIII. См. об это также: Detka J. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kelce, 1995.
[70] Эту тенденцию активно подхватит в конце 1990-ых годов молодая польская проза. В 1998 году Кшиштоф Варга издал сборник рассказов «45 идей для романа», в 1994 году вышли «Фракталы» Наташи Герке — небольшие по объему литературные коллажи, лишь намечающие сюжеты и характеры, в 1996 — «Антология постнатального творчества. D.G.J.L.O.S.W.» Ц. К. Кендера — сплетение отдельных, почти не связанных между собой сюжетных линий, и др. См. об этом подробнее: Адельгейм И. Е. Поэтика «промежутка»: молодая польская проза после 1989 года. М.2005.
[71] Walas T. Op.cit. S.315.
[72] Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli… S. 62.
[73] Kopeć Z. Op. cit. S.98.
[74] Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997. С.43
[75] Waugh P. Narcissitic Narrative: Metafictional Paradox. Ontario, 1981. P.1.
[76] Польская наука о литературе по традиции использует для интерпретации произведений такого рода термин «автотематизм», автором которого по праву считается выдающийся польский критик и историк литературы Артур Сандауэр. В монографии «Самоубийство Митридата» Сандауэр впервые выделил в отдельную категорию художественные тексты, в которых предпринята попытка «преодолеть онтологический барьер между художником и произведением», и определил их как «автотематические» (Sandauer A. Samobójstwo Mitridatesa // Sandauer A. Pisma wybrane. Warszawa, 1985. T.2. S.508). Во избежание разночтений в настоящей работе мы используем термины «автотематическая проза» и «метапроза» как взаимозаменяемые, хотя при более детальном рассмотрении нетрудно заключить, что автотематизм является отличительным и, вероятно, наиболее существенным, однако не единственным признаком метапрозы в целом. М. Липовецкий наряду с автотематизмом (тематизацией процесса творчества) выделяет следующие устойчивые признаки метапрозы: обнажение авторской роли в литературной конструкции; зеркальность повествования; текст в тексте и рамочный текст; «обнажение приема» и, как следствие этого, активизация читателя; пространственно-временная свобода; исключительная роль пародий, самопародий и пр. (Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм… С.43−46).
[77] Подробнее о проблеме автотематизма по отношению к роману К. Ижиковсвкого «Химера» см. в статье автора диссертации: Савельева А. А. Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение, 2005, № 1.
[78] Irzykowski K. Pałuba. Sny Marii Dunin. Wrocław, 1981. S.375.
[79] О роли Дневника в романе «Месиво» см. в статье атвора диссертации: Савельева А. А. О некоторых особенностях поэтики романа Ежи Анджеевского «Месиво» (Дневник писателя, его место и функции в романе) // Studia polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. (Сб. статей, отв. редактор Хореев В.А.). М.2003.
[80] Kuźma E. Fabuła w prozie autotematycznej (na przykładzie prozy J. Andrzejewskiego) // Fabuła utworu literackiego (red. Cz. Niedzielski i J. Speina). Toruń, 1987. S.125.
[81] Czermińska M. Аutobiografia jako wezwanie (O «Dzienniku» Gombrowicza) // Teksty Drugie, 1994. № 1. S.54.
[82] Jarzębski J. Literatura polska pod znakiem Gombrowicza // Lektury polonistyczne. Literatura współczesna (red Jarzębski J. i Nycz R.). Kraków, 1997. T.1. S.239.
[83] Walas T. Paradoksy «Miazgi»… S.300.
[84] Kuźma E. Funkcja dziennika w prozie Jerzego Andrzejewskiego // Europejska proza dariuszowa. Lublin, 1995. S. 139.
[85] Идея интимного лже-дневника на грани правды и вымысла получила широкое распространение в новейшей европейской литературе. Французский писательФредерик Бегбедер в своем романе-дневнике «Романтический эгоист» (2005) размышляет: «Многие читатели хотят знать, не привираю ли я, а если да, то в каком месте, в котором часу и с кем. Они не понимают, что если я веду дневник от первого лица, это еще не повод говорить правду. Это „не правда через ложь“ Арагона, а лживая правда автора дневника. Когда-то противопоставляли интимный дневник роману. Первый считался срыванием всяческих масок, последний — вымыслом. Поскольку с тех пор даже роман стал автобиографическим, я решил создать романизированный дневник. Рассказывать свою жизнь от собственного имени скучно, потому что слишком просто: рожа автора всем известна, понятно, кто говорит, всем все ясно. Это путь наименьшего сопротивления, и потом столько гениев (равно как и бездарей) его уже прошли. Второе Я позволяет пойти в обход и превратить чтение дневника в игру в прятки. „Романтического эгоиста“ можно определить следующим образом: это лего из эго». (Бегбедер Ф. Романтический эгоист. М., 2006. С. 160. Пер. с французского: М. Зонина).
[86] Ritz G. «Miazga» Andrzejewskiego — powieść u progu postmoderny // Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich. Lipsk, 1993. S. 137.
[87] В постмодернистской критике это явление получило определение пермутации текста и социального контекста (формулировка Доуве Фоккемы). Речь идет о попытке художника уничтожить грань между реальным фактом и вымыслом путем обращения к методу псевдо или гипперреализма, когда неинтерпретированные фрагменты реальности посредством коллажной техники вводятся в ткань художественного повествования как бы в сыром, естественном виде. (См. об этом подробнее: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков… С. 163−167).
[88] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. LXXXIX-CVIII.
[89] См. об этом подробнее: Snopek J. U źródeł «Miazgi». Rozmowa sprzed dwudziestu lat Gracji Kerenyi z Jerzym Andrzejewskim // Twórczośc, 1986, № 2.
[90] Kuźma E. Op.cit. S.140−141.
[91] Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli… S.34.
[92] Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до… С. 182.
[93] Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм… С. 218.
[94] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXXX.
[95] Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм… С. 206.
[96] Kuźma E. Op. cit. S.130.
[97] Немецкий исследователь Герман Риц говорит о «Месиве», как о «романе на пороге постмодернизма». (Ritz G. Op. cit. S.130).
[98] См., например, оценку романа в книге А. Вернера: Werner A. Pisarz i obywatel // Werner A. Poskie, arcypolskie… Warszawa, 1987.
[99] Липовецкий М. Русский постмодернизм… С. 125.
[100] Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
[101] Липовецкий М. Указ.соч. С. 124.
[102] Липовецкий М. Указ.соч. С. 124.
[103] Там же.
[104] Nowacki D. Z miazgi powstałeś, w miazgę się obrócisz // Między Kudenem a Andrzejewskim. Katowice, 1995. S. 135.
[1] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы «второго круга обращения» // Политика и поэтика. (сб. статей) М., 2000. С. 10.
[2] Здесь и далее, если нет специальных оговорок, написание слова «Дневник» с прописной буквы будет означать, что речь идет об авторском дневнике, включенном в структуру романа «Месиво».
[3] В Дневнике, включенном в текст романа, Агнджеевский упоминает следующие варианты названия, которые он в разное время планировал присвоить книге: Czary moje moc straciły, Delegacja służbowa, Gorzki pląs, Ta wierzba jest moja. (Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002. S.26).
[4] Cловарь польского языка под редакцией проф. М. Шимчака определяет значение слова miazga следующим образом: «Бесформенная, вязкая масса, образовавшаяся, как правило, в результате разбития, выжимки, измельчения чего-либо или кого-либо». (Słownik języka polskiego, red. nauk. Szymczak M. Warszawa, 1979. T.2. S.152). В русскоязычной критике нет единого мнения на счет перевода названия романа Анджеевского. В. А. Хорев и вслед за ним И. Адельгейм предлагают перевод «Крошево». Киевская исследовательница В. Ведина использует название «Мезгá». Название «Месиво», которого мы придерживаемся в настоящей работе, впервые было использовано В. Британишским в предисловии к двухтомному собранию сочинений Ежи Анджеевского на русском языке (Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.1), а позже в статье Е. З. Цыбенко «Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная проза» (Славяноведение, 1995. № 5). На английский язык название романа было переведено как «Pulp».
[5] Czerwony system pogardy. Rozmowa z J. Andrzejewskim // Trznadel J. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Lublin, 1990. S.81
[6] Британишский В. Указ.соч. С. 22.
[7] Коpeć Z. «Miazga». Postmodernizm. Sprawa polska. // Postmodernizm po polsku? Łódź, 1998. S.90.
[8] Коpeć Z. Op. cit. S.90.
[9] Достаточно вспомнить упоминавшийся выше эпизод «творческого тупика», в котором Анджеевский признавался в предисловии к изданию фрагментов книги в «Твурчости».
[10] Burek T. Tak długa nieobecność. Głosa o «Miazdze» // Burek T. Żadnych marzeń. Warszawa, 1989. S.191.
[11] Dąbrowski M. Literatura polska 1945−1995. Warszawa, 1997. S.232.
[12] Ibidem.
[13] Detka J. Przemiany poetyki Jerzego Andrzejewskiego. Kielce, 1995. S. 188.
[14] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М. 2000. С. 40.
[15] См. об этом подробнее: Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli o walce z szatanem // Pismo. 1983. № 3; Walas T. Paradoksy «Miazgi» Jerzego Andrzjewskiego // Lektury polonistyczne. Literatura współczesna (red. J. Jarzębski i R. Nycz). Kraków, 1997. T.1.
[16] Walas T. Paradoksy «Miazgi»… S.300.
[17] Burek T. Op. cit. S.187.
[18] Первоначально действие романа должно было разворачиваться 14−15 мая 1965 года, (во второй редакции — 14−15 мая 1969), но впоследствии Анджеевский передвинул дату событий на апрель. На страницах романа повествователь неоднократно упоминает эту путаницу с датами, объясняя перенос свадьбы на более ранний срок необходимостью молодоженов в мае посвятить все свое время работе над новым спектаклем («Макбет»). В действительности Анджеевский сознательно передвинул дату действия романа с 14 мая на 19 апреля — день рождения Антония Либеры (в те годы студента Варшавского Университета, а ныне известного литератора и литературоведа), как пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «в знак благодарности молодому критику и на память о совместной работе» (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. CVI). Это подтверждает и сам Либера в эссе, посвященном «Месиву» (Либера А. Два эссе. Свадьба, которой не было (О «Месиве» Ежи Анджеевского") // Иностранная литература, 2006, № 8). В 1969 году Либера выслал Анджеевскому письмо, в котором выражал свое восхищение его творчеством и мужеством, проявленным в общественной жизни. Между студентом и писателем завязалась оживленная переписка, предметом которой была и концепция «Месива». (Подробнее о переписке Либеры и Анджеевского см: Synoradzka-Demadre A. Op.cit. SS. LVII-LIX, Либера А. Указ. соч. сс. 280−283). Позже первое письмо Либеры Анджеевский включил в текст романа как письмо Антека Рашевского, адресованное Адаму Нагурскому, а в самом образе Антека запечатлел немало узнаваемых черт своего молодого друга.
[19] А. Сынорадзкая-Демадр указывает также, что в такой композиции, порождающей аллюзии с конструкцией классической драмы (3 части: экспозиция, кульминация, развязка, единство времени, места и действия), также можно усмотреть очередную аллюзию на драму Выспяьского «Свадьба», создававшуюся согласно тем же принципам. (См.: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. XLVI).
[20] Насколько нам известно, сопоставление поэтик «Улисса» и «Месива» еще ни разу не становилось предметом исследования в критической литературе.
[21] Хорунжий С. Комментарий // Джойс Дж. Улисс. Спб., 2004. С. 683.
[22] Либера А. Указ. соч. С. 281.
[23] Drewnowski T. Próba scalenia. Obiegi. Wzorce. Style. Warszawa, 1997. S.265.
[24] О значении сцены свадьбы в романе Анджеевского см. в статье атвора дисертации: Савельева А. А. О поэтике романа Ежи Анджеевского «Месиво» (мотив свадьбы) // Вестник Московского университета. Серия «Филология», 2003, № 1.
[25] См. об этом, например, Мусиенко С. Указ.соч. С. 40.
[26] Хореев В. А. Достижения и потери… С. 10.
[27] Свой вклад в развитие этого мотива внес и сам Анджеевский — вспомним сцену банкета в «Монополе» из романа «Пепел и алмаз».
[28] Błażejewski T. Rękopis zagubiony w Stuttgarcie … S. 27.
[29] Błażejewski T. Op. cit. S.27.
[30] Nasiłowska A. Polskie wesela // Tematy i pryznaty. Studia o prozie polskiej XX wieku (pod red. Brodzkiej A. i Ziątka Z.). Wrocław, 2000. S.127.
[31] Оконьская А. Выспяньский. М., 1997. С. 135.
[32] О перекличках между «Месивом» Анджеевского и «Свадьбой» Выспяньского раньше и подробнее других писал польский критик М. Томашевский в своей статье «„Месиво“, современная символическая драма?» (Tomaszewski M. «Miazga"współczesnydramat symboliczny? // Zeszyty Literackie, 1983. № 3).
[33] Пастиш (от итальянского pasticcio — опера, составленная из отрывков других опер, смесь, попурри, стилизация) — специфическая форма постмодернистской пародии. Авторитетный американский теоретик Ф. Джеймсон охарактеризовал пастиш как основной модус постмодернистского искусства. По мысли И. П. Ильина, «иронический модус постмодернистского пастиша в первую очередь отличается негативным пафосом, направленным против иллюзионизма масс-медиа и массовой культуры». (См. об том подробнее: Ильин И. П. Указ соч. С.223).
[34] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XLIII.
[35] Теорию «возможных миров» применительно к материалу современной польской прозы подробно рассматривает в своей работе Анна Лебковская: Łеbkowska A. Fikcja jako możliwość. Z przemian prozy XX wieku. Kraków, 1991.
[36] Wysłouch S. Problematyka symultanizmu w prozie. Poznań, 1981. S.78−79.
[37] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XLVIII.
[38] Концепция «открытого произведения» разрабатывалась учеными многих стран в основном в середине 1960-ых годов и получила свое наиболее авторитетное завершение в работах теоретика постмодернизма У.Эко. (См. об этом подробнее: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1998).
[39] Ильин И. П. Постмодернизм от истоков… С. 186.
[40] Первую попытку проанализировать роман «Месиво» в категориях литературной игры предприняла Тереза Валас: Wałas T. O «Miazdze Jerzego Andrzejewskiego czyli…
[41] Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 435.
[42] Там же. С. 438.
[43] Эко У. Маятник Фуко. С-Пб., 1999. С. 158.
[44] Британишский В. Указ.соч. С. 22.
[45] PAP — Polska Agencja Prasowa (Польское управление прессы).
[46] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.XXXVIII.
[47] Британишский В. Указ. соч. С. 23.
[48] Малгожата Черминьская называет это «автобиографическим следом», который намечает связь произведения с его автором и настраивает читателя на автобиографическую интерпретацию текста. (См. Об этом подробнее: Czermińska M. Autobiografia i powieść czyli autor i jego postacie. Gdańsk, 1987).
[49] Błażejewski T. Ор. сit. S.20.
[50] А. Сынорадзкая-Демадр полагает, что за образом девушки Nike в реальной действительности скрывался некий молодой человек Марек К., с которым у Анджеевского был роман во время написания первых фрагментов «Месива». Однако писатель не решился полностью дискредитировать образ Нагурского, приписав ему гомосексуальную связь. (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. CIII). Близкий писателю мотив однополой любви реализован в романе через описание любовной связи Ксаверия Панека с Мареком Кураном. Образ Ксаверия, как и образ Нагурского, во многом автобиографичен, именно ему писатель традиционно поручает произносить самые резкие, остро полемические, бескомпромиссные из своих суждений. В образе Марка Курана угадываются черты сразу двух реальных прототипов: все того же таинственного Марека К. и писателя-бунтаря Марека Хласко.
[51] Большинство критиков романа, напротив, склонны рассматривать образ Нагурского как «привилегированный» в системе персонажей книги. С. Мусиенко, в частности, пишет: «По сути, только один герой — alter ego автора — писатель Нагурский предстает честным и неподкупным, но он безнадежно одинок в мире коррупции и продажности. „Крошево“ — современный вариант художественного текста об интеллектуальных странствиях интеллигента по мукам» (Мусиенко С. Политические аллегории… С. 40). Похожую мысль высказывает и А. Сынорадзкая-Демадр: «Есть в романе герой, на котором сосредоточены все надежды, знаменитый писатель „среднего“ поколения Адам Нагурский. Он занимает в „Месиве“ привилегированное место человека-памятника — „мэтра“, божества с художественного Олимпа» (Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. LXV).
[52] Łubieński T. «Miazga» po dziesięciu latach // Bohaterowie naszych czasów. Londyn, 1986. S.44.
[53] Мусиенко С. Указ.соч. С. 40. Стоит отметить, что в «Месиве», как и в других, более ранних произведениях Анджеевского, можно встретить немало явных или завуалированных отсылок к популярным романтическим текстам, скрытых аллюзий и микроцитат. Имя Конрад, которое Анджеевский выбирает для одного из главных героев своего романа, талантливого актера и несостоявшегося жениха Конрада Келлера, не может не вызвать параллелей с именем главного героя «Дзядов», тем более, что после скандального запрета спектакля в марте 1968 года драма Мицкевича в буквальном смысле была у всех на устах. В упоминавшемся выше сравнении поляков со скалой, которой не хватило спайки, также угадывается аллюзия со знаменитым «народ наш как лава…» из «Дзядов» Мицкевича.
[54] Synoradka-Demadre A. Op.cit. XLIII.
[55] Ibid. S.L.
[56] Synoradka-Demadre A. Op.cit. S.L.
[57] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы… С. 10.
[58] Wałas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli … S.61.
[59] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXIX.
[60] Drewnowski T. Op.cit. S.268.
[61] Мусиенко С. Указ.соч. С. 39.
[62] Анджеевский Е. Мрак покрывает землю // Анджеевский Е. Сочинения… Т. 2. С. 100.
[63] Этот эпизод, приписанный в «Месиве» биографии Нагурского, имел место в реальной действительности и приключился с самим Анджеевским в 1952 году на торжественном вечере по случаю юбилея Марии Домбровской. Еще до упоминания в «Месиве» вся история была описана в рассказе «Великий плач бумажной головы» (1953).
[64] Ильин И. П. Постструктурализм… С. 73.
[65] Там же.
[66] Цыбенко Е. З. Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная проза» // Славяноведение. 1995, № 5. С. 59.
[67] Этим в значительной степени объясняется отсутствие в «Месиве» ярких узнаваемых образов среди представителей политической элиты, в то время, как образы деятелей культуры и искусства в подавляющем большинстве случаев имеют реальные прототипы (вплоть до подробностей биографии).
[68] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXXII.
[69] Ibid. S.LXXIII. См. об это также: Detka J. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kelce, 1995.
[70] Эту тенденцию активно подхватит в конце 1990-ых годов молодая польская проза. В 1998 году Кшиштоф Варга издал сборник рассказов «45 идей для романа», в 1994 году вышли «Фракталы» Наташи Герке — небольшие по объему литературные коллажи, лишь намечающие сюжеты и характеры, в 1996 — «Антология постнатального творчества. D.G.J.L.O.S.W.» Ц. К. Кендера — сплетение отдельных, почти не связанных между собой сюжетных линий, и др. См. об этом подробнее: Адельгейм И. Е. Поэтика «промежутка»: молодая польская проза после 1989 года. М.2005.
[71] Walas T. Op.cit. S.315.
[72] Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli… S. 62.
[73] Kopeć Z. Op. cit. S.98.
[74] Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997. С.43
[75] Waugh P. Narcissitic Narrative: Metafictional Paradox. Ontario, 1981. P.1.
[76] Польская наука о литературе по традиции использует для интерпретации произведений такого рода термин «автотематизм», автором которого по праву считается выдающийся польский критик и историк литературы Артур Сандауэр. В монографии «Самоубийство Митридата» Сандауэр впервые выделил в отдельную категорию художественные тексты, в которых предпринята попытка «преодолеть онтологический барьер между художником и произведением», и определил их как «автотематические» (Sandauer A. Samobójstwo Mitridatesa // Sandauer A. Pisma wybrane. Warszawa, 1985. T.2. S.508). Во избежание разночтений в настоящей работе мы используем термины «автотематическая проза» и «метапроза» как взаимозаменяемые, хотя при более детальном рассмотрении нетрудно заключить, что автотематизм является отличительным и, вероятно, наиболее существенным, однако не единственным признаком метапрозы в целом. М. Липовецкий наряду с автотематизмом (тематизацией процесса творчества) выделяет следующие устойчивые признаки метапрозы: обнажение авторской роли в литературной конструкции; зеркальность повествования; текст в тексте и рамочный текст; «обнажение приема» и, как следствие этого, активизация читателя; пространственно-временная свобода; исключительная роль пародий, самопародий и пр. (Липовецкий М. Н. Русский постмодернизм… С.43−46).
[77] Подробнее о проблеме автотематизма по отношению к роману К. Ижиковсвкого «Химера» см. в статье автора диссертации: Савельева А. А. Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение, 2005, № 1.
[78] Irzykowski K. Pałuba. Sny Marii Dunin. Wrocław, 1981. S.375.
[79] О роли Дневника в романе «Месиво» см. в статье атвора диссертации: Савельева А. А. О некоторых особенностях поэтики романа Ежи Анджеевского «Месиво» (Дневник писателя, его место и функции в романе) // Studia polonorossica. К 80-летию Елены Захаровны Цыбенко. (Сб. статей, отв. редактор Хореев В.А.). М.2003.
[80] Kuźma E. Fabuła w prozie autotematycznej (na przykładzie prozy J. Andrzejewskiego) // Fabuła utworu literackiego (red. Cz. Niedzielski i J. Speina). Toruń, 1987. S.125.
[81] Czermińska M. Аutobiografia jako wezwanie (O «Dzienniku» Gombrowicza) // Teksty Drugie, 1994. № 1. S.54.
[82] Jarzębski J. Literatura polska pod znakiem Gombrowicza // Lektury polonistyczne. Literatura współczesna (red Jarzębski J. i Nycz R.). Kraków, 1997. T.1. S.239.
[83] Walas T. Paradoksy «Miazgi»… S.300.
[84] Kuźma E. Funkcja dziennika w prozie Jerzego Andrzejewskiego // Europejska proza dariuszowa. Lublin, 1995. S. 139.
[85] Идея интимного лже-дневника на грани правды и вымысла получила широкое распространение в новейшей европейской литературе. Французский писательФредерик Бегбедер в своем романе-дневнике «Романтический эгоист» (2005) размышляет: «Многие читатели хотят знать, не привираю ли я, а если да, то в каком месте, в котором часу и с кем. Они не понимают, что если я веду дневник от первого лица, это еще не повод говорить правду. Это „не правда через ложь“ Арагона, а лживая правда автора дневника. Когда-то противопоставляли интимный дневник роману. Первый считался срыванием всяческих масок, последний — вымыслом. Поскольку с тех пор даже роман стал автобиографическим, я решил создать романизированный дневник. Рассказывать свою жизнь от собственного имени скучно, потому что слишком просто: рожа автора всем известна, понятно, кто говорит, всем все ясно. Это путь наименьшего сопротивления, и потом столько гениев (равно как и бездарей) его уже прошли. Второе Я позволяет пойти в обход и превратить чтение дневника в игру в прятки. „Романтического эгоиста“ можно определить следующим образом: это лего из эго». (Бегбедер Ф. Романтический эгоист. М., 2006. С. 160. Пер. с французского: М. Зонина).
[86] Ritz G. «Miazga» Andrzejewskiego — powieść u progu postmoderny // Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich. Lipsk, 1993. S. 137.
[87] В постмодернистской критике это явление получило определение пермутации текста и социального контекста (формулировка Доуве Фоккемы). Речь идет о попытке художника уничтожить грань между реальным фактом и вымыслом путем обращения к методу псевдо или гипперреализма, когда неинтерпретированные фрагменты реальности посредством коллажной техники вводятся в ткань художественного повествования как бы в сыром, естественном виде. (См. об этом подробнее: Ильин И. П. Постмодернизм от истоков… С. 163−167).
[88] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S. LXXXIX-CVIII.
[89] См. об этом подробнее: Snopek J. U źródeł «Miazgi». Rozmowa sprzed dwudziestu lat Gracji Kerenyi z Jerzym Andrzejewskim // Twórczośc, 1986, № 2.
[90] Kuźma E. Op.cit. S.140−141.
[91] Walas T. O «Miazdze» Jerzego Andrzejewskiego czyli… S.34.
[92] Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до… С. 182.
[93] Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм… С. 218.
[94] Synoradzka-Demadre A. Op.cit. S.LXXX.
[95] Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм… С. 206.
[96] Kuźma E. Op. cit. S.130.
[97] Немецкий исследователь Герман Риц говорит о «Месиве», как о «романе на пороге постмодернизма». (Ritz G. Op. cit. S.130).
[98] См., например, оценку романа в книге А. Вернера: Werner A. Pisarz i obywatel // Werner A. Poskie, arcypolskie… Warszawa, 1987.
[99] Липовецкий М. Русский постмодернизм… С. 125.
[100] Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
[101] Липовецкий М. Указ.соч. С. 124.
[102] Липовецкий М. Указ.соч. С. 124.
[103] Там же.
[104] Nowacki D. Z miazgi powstałeś, w miazgę się obrócisz // Między Kudenem a Andrzejewskim. Katowice, 1995. S. 135.