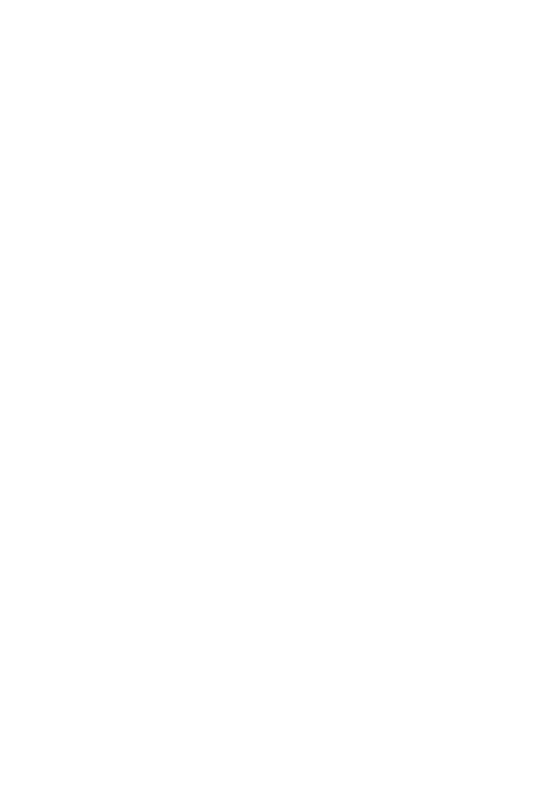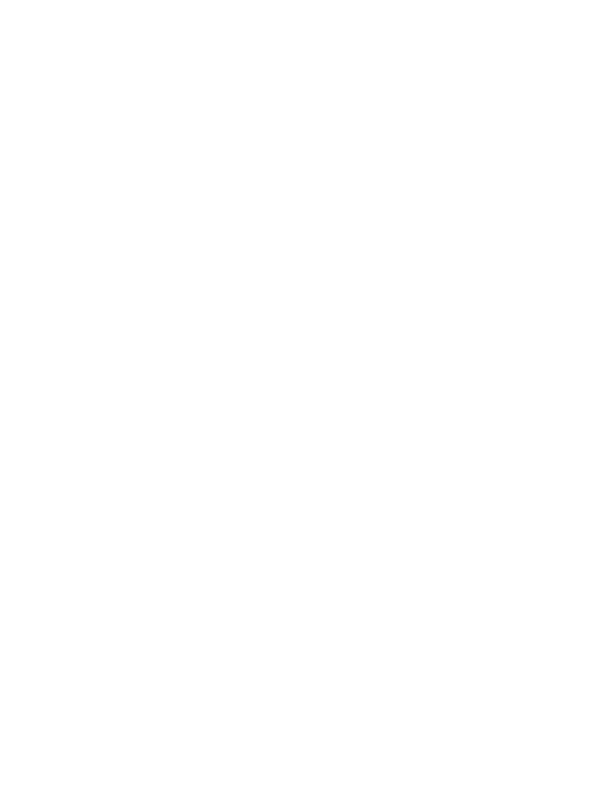автореферат диссертации
Эволюция прозы Ежи анджеевского после 1956 года. Особенности жанра и стиля
СОДЕРЖАНИЕ
[1] Раздел 1. Общая характеристика диссертации
[2] Раздел 2. Основное содержание диссертации
[2.1] Введение
[2.2] Глава 1. Общественно-политическая ситуация и литературный процесс в Польше после 1956-го года
[2.3] Глава 2. Проза Ежи Анджеевского 1936-1956-го годов
[2.4] Глава 3. Расчеты с прошлым в романе «Мрак покрывает землю»
[2.5] Глава 4. Микророман «Врата рая» как роман-парабола
[2.6] Глава 5. До и после «Месива»: роман «Идет, скачет по горам»
и повести конца 1960-х – начала 1980-х годов
[2.7] Глава 6. Роман «Месиво»: новое содержание в новой форме
[2.8] Заключение
[3] Примечания
[4] Опубликованные статьи
[1] Раздел 1. Общая характеристика диссертации
[2] Раздел 2. Основное содержание диссертации
[2.1] Введение
[2.2] Глава 1. Общественно-политическая ситуация и литературный процесс в Польше после 1956-го года
[2.3] Глава 2. Проза Ежи Анджеевского 1936-1956-го годов
[2.4] Глава 3. Расчеты с прошлым в романе «Мрак покрывает землю»
[2.5] Глава 4. Микророман «Врата рая» как роман-парабола
[2.6] Глава 5. До и после «Месива»: роман «Идет, скачет по горам»
и повести конца 1960-х – начала 1980-х годов
[2.7] Глава 6. Роман «Месиво»: новое содержание в новой форме
[2.8] Заключение
[3] Примечания
[4] Опубликованные статьи
Общая характеристика диссертации
Раздел 1
В настоящей работе речь идет о прозе Ежи Анджеевского конца 1950-х — начала 1980-х годов. Это последний период творчества знаменитого польского писателя (Анджеевский уходит из жизни 19-ого апреля 1983-го года). Прозаик, публицист, сценарист, драматург, активный общественный и политический деятель Анджеевский вошел в историю мировой литературы как писатель ищущий, мыслящий, сомневающийся, недоверчивый к банальностям и прописным истинам.
Его творчество, как наверное творчество любого большого художника, с трудом укладывается в прокрустово ложе традиционных историко-литературных классификаций, преодолевая общепринятые представления о форме, жанре и стиле литературного произведения.
Владимир Британишский в своем предисловии к двухтомному собранию сочинений Анджеевского на русском языке пишет: «В литературной, в идеологической, в интеллектуальной биографии Анджеевского, во всех его книгах — концы с концами не сходятся. Может быть, этим-то он и нужен, писатель, отразивший тревогу и сумятицу, хаос и путаницу, лабиринты и тупики, надежды, сомнения, разочарования, отразивший смятение эпохи» [1].
Наиболее ярко и выпукло это свойство художественного дара Анджеевского отразилось в его прозе после 1956 года: в романах «Мрак покрывает землю» (Ciemności kryją ziemię, 1957), «Врата рая» (Bramy raju, 1960), «Идет, скачет по горам» (Idzie skacząc po górach, 1963), «Месиво» (Miazga, 1970, изд. 1979), а также в повестях «Апелляция» (Apelacja, 1968), «Вот и конец тебе» (Teraz na ciebie zagłada, 1976), «Уже почти ничего» (Już prawie nic, 1979), «Никто» (Nikt, 1983). Эти тексты являются предметом настоящего исследования.
Многие из книг, написанных Анджеевским после 1956 года, ждала непростая судьба. Из-за препятствий цензуры, переставшей благоволить к оппозиционно настроенному писателю, одни из них были запрещены к печати либо печатались с калечащими правками и сокращениями, другие сознательно замалчивались или подвергались обструкции. Проза Анджеевского 1970-х годов пополнила главным образом так называемую «литературу второго круга обращения», т. е. вошла в число произведений, нелегально публиковавшихся в многочисленных подпольных издательствах и разнообразных «самиздатах».
Лишь в начале 1980-х, в результате существенных внутриполитических преобразований и последовавшей за ними частичной отмены цензурных запретов, эти произведения Анджеевского, наряду с другими ранее не публиковавшимися текстами, были официально изданы в Польше в русле так называемой «возвращенной литературы». Полноценное переиздание этих книг (без сокращений и цензурных правок) стало возможно только после окончательного падения социалистического строя в Польше в 1989 году. Исторические и политические коллизии, сопровождавшие путь последних романов и повестей Анджеевского к читателю, во многом определили отношение к ним литературной критики, и отразились как на количестве, так и на качестве посвященных им критических работ. В течение долгого времени ни польское, ни российское литературоведение не располагало серьезными исследованиями, представляющими собой системный и полный анализ поздней прозы Анджеевского.
Только в последние годы временная дистанция, независимость критики от диктата общественного мнения и разработанная с годами теоретическая база позволили польским исследователям с большой долей объективности оценивать художественные достоинства и недостатки поздних произведений Анджеевского и определить их подлинное место и значение в формировании литературного процесса страны.
Сегодня Анджеевскому посвящен ряд монографий, изданных польскими авторами, и известное число статей как в польской, так и в зарубежной критике. В России позднему периоду творчества Анджеевского до сих пор уделялось относительно мало внимания. Романам, созданным польским писателем после 1956-го года, в русскоязычной критике посвящено лишь несколько статей, в их числе: «Политические аллегории Ежи Анджеевского» С. Мусиенко [2], «„Врата рая“ Ежи Анджеевского как повесть-парабола» А. Байздренко [3], «Достижения и потери польской прозы „второго круга обращения“» В. А. Хорева [4], «Роман Ежи Анджеевского „Месиво“ и польская „возвращенная проза“» Е. З. Цыбенко [5].
Настоящая работа является первой попыткой системного исследования и критического осмысления прозы Ежи Анджеевского конца 1950-х — начала 1980-х годов в российском литературоведении. Этим определяется научная новизна настоящей диссертации.
Его творчество, как наверное творчество любого большого художника, с трудом укладывается в прокрустово ложе традиционных историко-литературных классификаций, преодолевая общепринятые представления о форме, жанре и стиле литературного произведения.
Владимир Британишский в своем предисловии к двухтомному собранию сочинений Анджеевского на русском языке пишет: «В литературной, в идеологической, в интеллектуальной биографии Анджеевского, во всех его книгах — концы с концами не сходятся. Может быть, этим-то он и нужен, писатель, отразивший тревогу и сумятицу, хаос и путаницу, лабиринты и тупики, надежды, сомнения, разочарования, отразивший смятение эпохи» [1].
Наиболее ярко и выпукло это свойство художественного дара Анджеевского отразилось в его прозе после 1956 года: в романах «Мрак покрывает землю» (Ciemności kryją ziemię, 1957), «Врата рая» (Bramy raju, 1960), «Идет, скачет по горам» (Idzie skacząc po górach, 1963), «Месиво» (Miazga, 1970, изд. 1979), а также в повестях «Апелляция» (Apelacja, 1968), «Вот и конец тебе» (Teraz na ciebie zagłada, 1976), «Уже почти ничего» (Już prawie nic, 1979), «Никто» (Nikt, 1983). Эти тексты являются предметом настоящего исследования.
Многие из книг, написанных Анджеевским после 1956 года, ждала непростая судьба. Из-за препятствий цензуры, переставшей благоволить к оппозиционно настроенному писателю, одни из них были запрещены к печати либо печатались с калечащими правками и сокращениями, другие сознательно замалчивались или подвергались обструкции. Проза Анджеевского 1970-х годов пополнила главным образом так называемую «литературу второго круга обращения», т. е. вошла в число произведений, нелегально публиковавшихся в многочисленных подпольных издательствах и разнообразных «самиздатах».
Лишь в начале 1980-х, в результате существенных внутриполитических преобразований и последовавшей за ними частичной отмены цензурных запретов, эти произведения Анджеевского, наряду с другими ранее не публиковавшимися текстами, были официально изданы в Польше в русле так называемой «возвращенной литературы». Полноценное переиздание этих книг (без сокращений и цензурных правок) стало возможно только после окончательного падения социалистического строя в Польше в 1989 году. Исторические и политические коллизии, сопровождавшие путь последних романов и повестей Анджеевского к читателю, во многом определили отношение к ним литературной критики, и отразились как на количестве, так и на качестве посвященных им критических работ. В течение долгого времени ни польское, ни российское литературоведение не располагало серьезными исследованиями, представляющими собой системный и полный анализ поздней прозы Анджеевского.
Только в последние годы временная дистанция, независимость критики от диктата общественного мнения и разработанная с годами теоретическая база позволили польским исследователям с большой долей объективности оценивать художественные достоинства и недостатки поздних произведений Анджеевского и определить их подлинное место и значение в формировании литературного процесса страны.
Сегодня Анджеевскому посвящен ряд монографий, изданных польскими авторами, и известное число статей как в польской, так и в зарубежной критике. В России позднему периоду творчества Анджеевского до сих пор уделялось относительно мало внимания. Романам, созданным польским писателем после 1956-го года, в русскоязычной критике посвящено лишь несколько статей, в их числе: «Политические аллегории Ежи Анджеевского» С. Мусиенко [2], «„Врата рая“ Ежи Анджеевского как повесть-парабола» А. Байздренко [3], «Достижения и потери польской прозы „второго круга обращения“» В. А. Хорева [4], «Роман Ежи Анджеевского „Месиво“ и польская „возвращенная проза“» Е. З. Цыбенко [5].
Настоящая работа является первой попыткой системного исследования и критического осмысления прозы Ежи Анджеевского конца 1950-х — начала 1980-х годов в российском литературоведении. Этим определяется научная новизна настоящей диссертации.
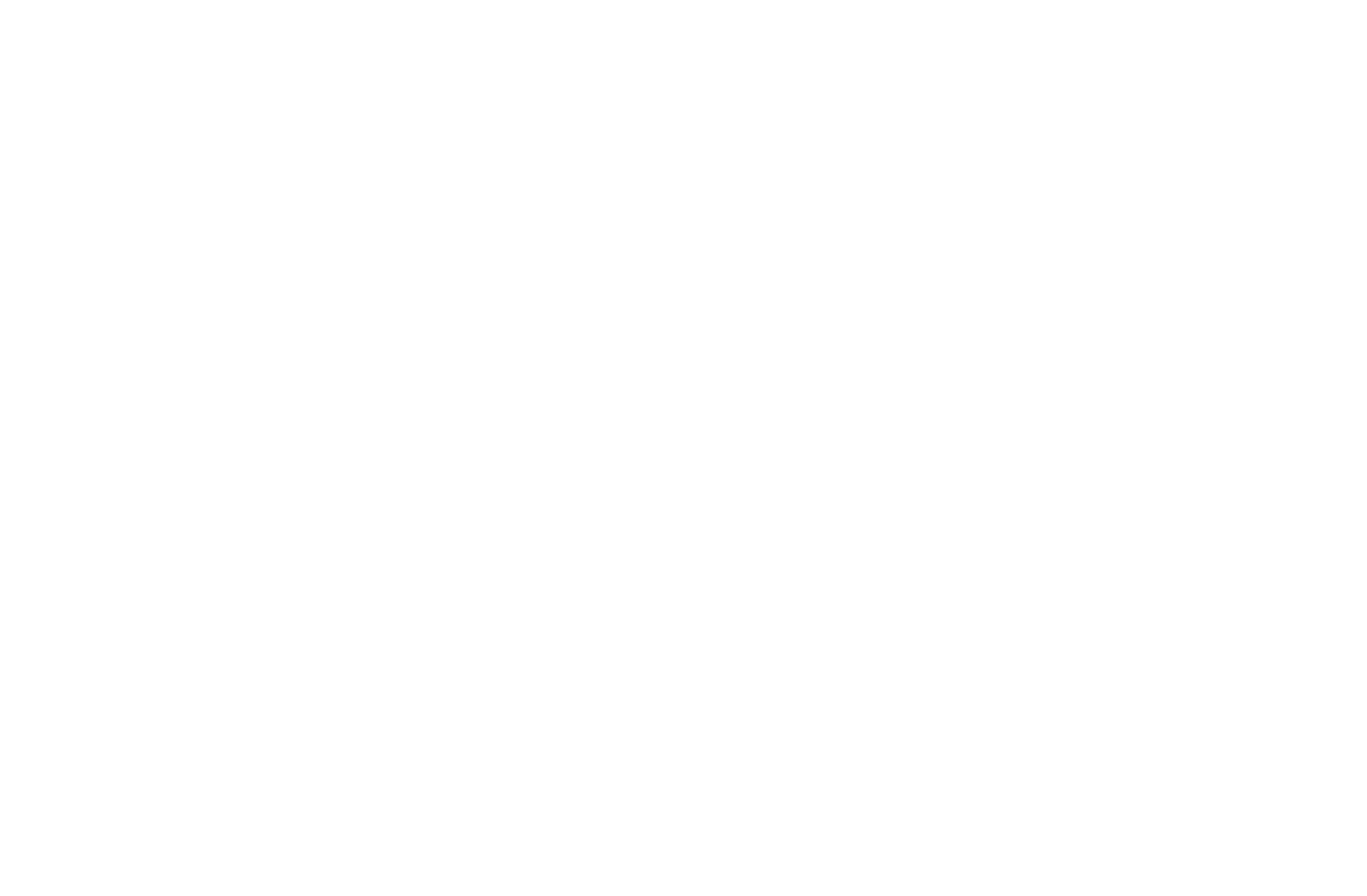
Практическая значимость исследования проявляется в том, что его результаты могут быть использованы при разработке и чтении лекционных курсов по истории польской литературы и славянских литератур, а также в спецкурсах и спецсеминарах, посвященных проблемам современного словесного искусства Польши. Материал диссертации и сделанные в ней выводы могут быть полезны исследователям, занимающимся различными вопросами истории и теории литературы. Кроме этого конкретные наблюдения и факты, зафиксированные в исследовании, могут быть использованы в издательской практике, в том числе при составлении предисловий и комментариев к переведенным на русский язык произведениям Ежи Анджеевского.
Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью новаторства поздней прозы Анджеевского и низкой степенью изученности влияния этой прозы на современную европейскую и мировую литературу. Мучительно преодолевая кризисы и конфликты своей эпохи, Анджеевский оказался одним из тех, кто предупредил и во многом предопределил эпоху новую, одним из знаковых явлений которой стал постмодернизм.
Настоящая работа ставит целью как можно более полно и последовательно исследовать эволюцию прозы Ежи Анджеевского после 1956 года, а именно:
Согласно намеченным целям и задачам, работа состоит
из введения, шести глав и заключения.
Актуальность темы исследования обусловлена высокой степенью новаторства поздней прозы Анджеевского и низкой степенью изученности влияния этой прозы на современную европейскую и мировую литературу. Мучительно преодолевая кризисы и конфликты своей эпохи, Анджеевский оказался одним из тех, кто предупредил и во многом предопределил эпоху новую, одним из знаковых явлений которой стал постмодернизм.
Настоящая работа ставит целью как можно более полно и последовательно исследовать эволюцию прозы Ежи Анджеевского после 1956 года, а именно:
- Выявить ключевые тенденции развития польской литературы после 1956 года и исследовать опыт их преломления/преодоления в творчестве Ежи Анджеевского этого периода.
- Проследить динамику и закономерности развития прозы Ежи Анджеевского после 1956-го года, рассмотреть ее на фоне предшествующего творчества писателя (1936−1956-е годы).
- Раскрыть художественное своеобразие прозы Ежи Анджеевского после 1956 года, проанализировать жанровые и стилевые особенности отдельных произведений, созданных в эти годы.
- Определить место и значение творчества Ежи Анджеевского после 1956-го года в литературном процессе Польши второй половины ХХ века, обозначить влияние, оказанное поздней прозой Ежи Анджеевского на других авторов этого и последующих периодов.
Согласно намеченным целям и задачам, работа состоит
из введения, шести глав и заключения.
Основное содержание диссертации
Раздел 2
Введение
Во Введении обосновывается актуальность работы, определяются ее цели и задачи, а также оговаривается состояние изучения проблемы в отечественной и иностранной критической литературе.
Глава 1
Общественно-политическая ситуация и литературный процесс в Польше после 1956-го года
1956-й год открыл новую страницу в истории польской литературы и культуры. В течение предшествовавших 7 лет, после IV съезда Союза польских писателей, состоявшегося в 1949-м году в Щецине, основным (и единственным) методом литературы в Польше считался социалистический реализм. Политические события 1956-го года (разоблачение «культа личности» Сталина на ХХ Съезде КПСС, возвращение к власти в Польше Владислава Гомулки) дали полякам надежду на либерализацию общественной и политической жизни страны.
VII съезд Союза польских писателей, досрочно собравшийся
в конце 1956-го года, высказался за свободу художественного творчества, за отмену предварительной цензуры, за свободный доступ к достижениям западной литературы и контакты с эмиграцией. Однако «оттепель» оказалась недолгой. Уже к началу 1960-х годов многие из предпринятых в 1956-м году демократических реформ были приостановлены или отменены.
Польская интеллигенция не могла оставаться в стороне от происходивших в стране событий. В ответ на репрессивную культурную политику властей многие из выдающихся польских писателей этого времени, и в первую очередь Ежи Анджеевский, получивший негласный титул «морального авторитета» своего поколения, стали инициаторами и активными участниками разнообразных акций протеста, целью которых было сопротивление усиливающейся догматизации культуры и вмешательству власти в литературное творчество. Такие акции имели место в марте 1968-го года и позже — в 1970-е годы, вплоть до падения социалистического режима в стране в 1990-м году.
Вторая половина 1970-х годов стала временем тотального усиления цензуры. В результате в 1976-м году в Польше было организовано первое крупное подпольное издательство — «НОВА», а год спустя появился один из первых нелегальных литературных журналов — «Запис».
К этому времени стало уже очевидным, что партийно-государственное руководство страны оказалось беспомощным перед неумолимо надвигавшимся социально-политическим и экономическим кризисом. В стране начались массовые забастовки рабочих, поддержанные студентами и интеллигенцией.
В декабре 1981-го года, после того как независимое профсоюзное движение «Солидарность» призвало провести референдум о легитимности коммунистической власти в Польше, в стране было введено военное положение.
Польская проза живо отозвалась на политические и социальные катаклизмы тех лет. Одна из важных художественных тенденций, зафиксированных польской прозой после 1956-го года, — возвращение личностного начала в литературу и искусство, во многом связанное с влиянием философии французского экзистенциализма. Тенденция к восстановлению в правах человеческой личности, психологизации и отчасти интеллектуализации прозы отчетливо прослеживается в творчестве многих польских писателей этого периода: Я. Ивашкевича (В 1957 году он издает рассказ «Взлет», в котором вступает в прямую полемику с Камю и его рассказом «Падение»), Т. Конвицкого, С. Дыгата, М. Новаковского, М. Бялошевского, М. Кунцевич и, конечно, Ежи Анджеевского.
Стремление выдвинуть на передний план самобытность и самоценность личности, философию индивида, стало одной из причин возникновения в польской литературе 1960−70-ых годов такого феномена как «романа инициации», главным героем которого является ребенок или подросток: Я. Бжехва («Когда созревает плод», 1958), Л. Гомолицкий («Бегство», 1959), В. Жукровский («Крохи свадебного торта», 1959), К. Филипович (сборник рассказов «Белая птица», 1960), М. Яструн («Прекрасная болезнь», 1961), А. Кусьневич («Третье королевство», 1975), Е. Стрыйковский («Сон Азрила», 1975) и др. Мотив инициации дает писателю возможность «отстроиться» от прежнего знания о мире, взглянуть на жизнь незамутненным, незашоренным взглядом, «показать преломление жизненных конфликтов в доверчивом и непосредственном, хотя иногда необычайно прозорливом, восприятии ребенка, не ведающего о скрытых жизненных пружинах действительности» [6].
1956-й год положил начало ряду существенных демократических преобразований, нашедших отражение в польской литературе и культуре. В их числе — принцип децентрализации, проявившийся в эскалации интереса к периферийным (и до сих пор замалчиваемым) сферам жизни: быту городских низов и окраин, жизни провинции (в частности польских «кресов»), деталям будничной повседневности. Новая проблематика вошла в польскую прозу вместе с молодым поколением писателей, дебютировавших в середине 1950-ых годов: С. Гроховяк, В. Терлецкий, А. Минковский, М. Хласко, И. Иредыньский, М. Новаковский.
Общим для молодых авторов было стремление противопоставить соцреалистической литературе 1950-ых, «зацикленной» на пропаганде производственных достижений и успехов, новое виденье мира, в котором есть место другим людям, другим проблемам и другим ценностям. В середине 1950-х годов творчество Марека Хласко и его последователей (которые получили имя «хласкоиды») сформировало в польской литературе так называемую «черную прозу», оказавшую значительное влияние на многих польских авторов этого и последующего периодов.
События 1956-го открыли перед польскими литераторами неограниченные возможности для разносторонней оценки современной действительности и одновременно с тем поставили перед необходимостью критически оценить собственное прошлое, анализировать мотивы, заставлявшие подчиняться навязываемым доктринерским установкам. У многих польских авторов того времени, еще недавно яро поддерживавших социалистический строй и проявлявших особое рвение в реализации идей и принципов щецинского съезда (в их числе был и Ежи Анджеевский), как бы «спала пелена с глаз», наступило прозрение, заставившее в корне пересмотреть свое отношение к существующему строю.
Вокруг этой темы (переоценки, переосмысления собственного прошлого и прошлого страны) концентрируется так называемая «литература расчета», пик расцвета которой приходится на 1956−57-е годы: К. Брандыс («Защита Гренады», 1956; «Мать Крулей», 1957), А. Браун («Мощеный ад», 1957), А. Сцибор-Рыльский («Саргассово море», 1956, «Черные стены», 1958), В. Ворошильский («Жестокая звезда», 1958), Л. Кручковский («Очерки из ада честных», 1963).
Однако уже в начале 1960-х годов цензура наложила запрет на тематику «литературы расчета»: новые произведения перестали допускаться к печати, ранее опубликованные — не переиздавались и изымались из собраний сочинений авторов. Писатели, продолжавшие поднимать в своих книгах тему «расчетов с прошлым», подвергались гонениям.
Необходимость преодоления цензурных запретов привела к возрождению в польской литературе разного рода иносказательных поэтик: «исторического костюма», «географического псевдонима», «эзопова языка» и т. п. Большое распространение получила «параболическая историческая проза иносказаний и намеков» [7]: Я. Бохеньский («Божественный Юлий. Записки антиквара», 1961; «Назон — поэт», 1969), А. Щиперский «Месса по городу Аррас», 1971) и др.
На принципах параболы и «исторического костюма» строятся романы Ежи Анджеевского «Мрак покрывает землю» (1957) и «Врата рая» (1961), речь о который идет в следующих главах настоящей работы.
В 1960−70-е годы в Польше широко развивается и традиционный исторический роман, представленный творчеством Т. Парницкого, Х. Малевской, А. Кусьневича, В. Терлецкого. И все же к концу 1970-х годов становится очевидно, что ни осторожных аллюзий исторической прозы, ни прямолинейных обвинений «литературы расчета» для анализа и независимого критического осмысления действительности недостаточно. Потребность писателей «называть вещи своими именами» привела к появлению в конце 1970-х годов так называемой литературы «второго круга обращения», издававшейся и распространявшейся неофициально.
Ярким примером интеллектуально свободной польской прозы на современные темы могут служить романы Т. Конвицкого «Польский комплекс» (нелегальное издание — 1977) и «Малый апокалипсис» (опубликован в Лондоне в 1979-м году), а также роман Ежи Анджеевского «Месиво» (нелегальное издание в Польше — 1979-й год, переиздан в Лондоне в 1981-м году, официально издан в Польше в 1981-м году).
«Месиво» — характерный пример не только идеологического, но и эстетического бунта, под знаком которого развивалась польская литература после 1956-го года. В начале 1960-х годов писатели, хотя бы отчасти отвоевавшие себе право на художественный эксперимент, начали активно осваивать новые поэтики, повествовательные приемы и формы.
Наиболее существенные преобразования произошли в сфере жанра и стиля, где со временем сформировалась качественно новая система, основанная на принципах синкретизма, открытости текста и множественности интерпретаций.
Знаменательным явлением литературного процесса в послевоенной Польше стало преобладание разнообразных парабеллетристических жанров: дневника (появляются многочисленные прижизненные публикации дневников и воспоминаний писателей), эссе, репортажа, хроники и других разновидностей «литературы факта». Писатели нередко сознательно имитируют в своих произведениях форму хроники, дневника с элементами репортажа, воспоминаний: «Лабиринт» (1960) и «Бронзовые врата» (1960) Т. Брезы, «Личность» (1974) Т. Холуя.
В результате колебаний жанровой нормы в польской прозе 1960−70-х годов появляется ряд художественных текстов, сочетающих в себе элементы различных прозаических видов и форм: дневника, эссе, беллетризованных воспоминаний. Причем польские писатели не просто отходят от традиционного сюжетного повествования в пользу усиления личностного начала, но сознательно вводят в классическую автобиографическую прозу элементы пародии, вымысла, литературной игры: Т. Ружевич «Приготовления к авторскому вечеру» (1971), А. Рудницкий «Голубые странички» (1957), Т. Конвицкий «Календарь и клепсидра» (1976), «Всходы и заходы луны» (1982). Для жанровой классификации произведений такого рода стал использоваться термин «сильва» (от латинского silva rerum — лес вещей) [8].
В поисках адекватных средств выражения и новых форм контакта с читателем польские авторы, особенно молодые, вступившие в литературу в конце 1970-х годов, охотно обращаются к опыту иностранных писателей, иронически переосмысляют и демифологизируют традиционные для польской литературы сюжеты, отказываются от широко понимаемого историзма, отличавшего литературу предшествовавших десятилетий.
В конце 1980-х годов в Польше происходит массовое «открытие» постмодернизма. В посткоммунистической Польше новая — постмодернистская — парадигма художественности для многих стала символом новой эпохи, что, по справедливому замечанию И. Адельгейм, вполне объяснимо: «Политические перемены неизбежно ассоциировались с эстетическими и художественными новациями. Новая эпоха не могла остаться безымянной, а поскольку в области политики имени для нее не нашлось, его дало искусство» [9].
На волне всеобщего ажиотажа, подогреваемого типичной для Польши рубежа 1980−90-ых годов «жаждой литературной сенсации», постмодернистским, или даже более того — «первым постмодернистским» романом объявлялось едва ли не каждое второе произведение [10]. Тогда же были предприняты первые попытки экстраполировать эстетические установки постмодернизма на творчество писателей более раннего поколения, в чьих книгах впервые оформились те черты кризисного ощущения и переживания мира, которые (со свойственной им поэтикой) главным образом отличают постмодернистскую модель литературы. Одним из таких авторов был Ежи Анджеевский.
VII съезд Союза польских писателей, досрочно собравшийся
в конце 1956-го года, высказался за свободу художественного творчества, за отмену предварительной цензуры, за свободный доступ к достижениям западной литературы и контакты с эмиграцией. Однако «оттепель» оказалась недолгой. Уже к началу 1960-х годов многие из предпринятых в 1956-м году демократических реформ были приостановлены или отменены.
Польская интеллигенция не могла оставаться в стороне от происходивших в стране событий. В ответ на репрессивную культурную политику властей многие из выдающихся польских писателей этого времени, и в первую очередь Ежи Анджеевский, получивший негласный титул «морального авторитета» своего поколения, стали инициаторами и активными участниками разнообразных акций протеста, целью которых было сопротивление усиливающейся догматизации культуры и вмешательству власти в литературное творчество. Такие акции имели место в марте 1968-го года и позже — в 1970-е годы, вплоть до падения социалистического режима в стране в 1990-м году.
Вторая половина 1970-х годов стала временем тотального усиления цензуры. В результате в 1976-м году в Польше было организовано первое крупное подпольное издательство — «НОВА», а год спустя появился один из первых нелегальных литературных журналов — «Запис».
К этому времени стало уже очевидным, что партийно-государственное руководство страны оказалось беспомощным перед неумолимо надвигавшимся социально-политическим и экономическим кризисом. В стране начались массовые забастовки рабочих, поддержанные студентами и интеллигенцией.
В декабре 1981-го года, после того как независимое профсоюзное движение «Солидарность» призвало провести референдум о легитимности коммунистической власти в Польше, в стране было введено военное положение.
Польская проза живо отозвалась на политические и социальные катаклизмы тех лет. Одна из важных художественных тенденций, зафиксированных польской прозой после 1956-го года, — возвращение личностного начала в литературу и искусство, во многом связанное с влиянием философии французского экзистенциализма. Тенденция к восстановлению в правах человеческой личности, психологизации и отчасти интеллектуализации прозы отчетливо прослеживается в творчестве многих польских писателей этого периода: Я. Ивашкевича (В 1957 году он издает рассказ «Взлет», в котором вступает в прямую полемику с Камю и его рассказом «Падение»), Т. Конвицкого, С. Дыгата, М. Новаковского, М. Бялошевского, М. Кунцевич и, конечно, Ежи Анджеевского.
Стремление выдвинуть на передний план самобытность и самоценность личности, философию индивида, стало одной из причин возникновения в польской литературе 1960−70-ых годов такого феномена как «романа инициации», главным героем которого является ребенок или подросток: Я. Бжехва («Когда созревает плод», 1958), Л. Гомолицкий («Бегство», 1959), В. Жукровский («Крохи свадебного торта», 1959), К. Филипович (сборник рассказов «Белая птица», 1960), М. Яструн («Прекрасная болезнь», 1961), А. Кусьневич («Третье королевство», 1975), Е. Стрыйковский («Сон Азрила», 1975) и др. Мотив инициации дает писателю возможность «отстроиться» от прежнего знания о мире, взглянуть на жизнь незамутненным, незашоренным взглядом, «показать преломление жизненных конфликтов в доверчивом и непосредственном, хотя иногда необычайно прозорливом, восприятии ребенка, не ведающего о скрытых жизненных пружинах действительности» [6].
1956-й год положил начало ряду существенных демократических преобразований, нашедших отражение в польской литературе и культуре. В их числе — принцип децентрализации, проявившийся в эскалации интереса к периферийным (и до сих пор замалчиваемым) сферам жизни: быту городских низов и окраин, жизни провинции (в частности польских «кресов»), деталям будничной повседневности. Новая проблематика вошла в польскую прозу вместе с молодым поколением писателей, дебютировавших в середине 1950-ых годов: С. Гроховяк, В. Терлецкий, А. Минковский, М. Хласко, И. Иредыньский, М. Новаковский.
Общим для молодых авторов было стремление противопоставить соцреалистической литературе 1950-ых, «зацикленной» на пропаганде производственных достижений и успехов, новое виденье мира, в котором есть место другим людям, другим проблемам и другим ценностям. В середине 1950-х годов творчество Марека Хласко и его последователей (которые получили имя «хласкоиды») сформировало в польской литературе так называемую «черную прозу», оказавшую значительное влияние на многих польских авторов этого и последующего периодов.
События 1956-го открыли перед польскими литераторами неограниченные возможности для разносторонней оценки современной действительности и одновременно с тем поставили перед необходимостью критически оценить собственное прошлое, анализировать мотивы, заставлявшие подчиняться навязываемым доктринерским установкам. У многих польских авторов того времени, еще недавно яро поддерживавших социалистический строй и проявлявших особое рвение в реализации идей и принципов щецинского съезда (в их числе был и Ежи Анджеевский), как бы «спала пелена с глаз», наступило прозрение, заставившее в корне пересмотреть свое отношение к существующему строю.
Вокруг этой темы (переоценки, переосмысления собственного прошлого и прошлого страны) концентрируется так называемая «литература расчета», пик расцвета которой приходится на 1956−57-е годы: К. Брандыс («Защита Гренады», 1956; «Мать Крулей», 1957), А. Браун («Мощеный ад», 1957), А. Сцибор-Рыльский («Саргассово море», 1956, «Черные стены», 1958), В. Ворошильский («Жестокая звезда», 1958), Л. Кручковский («Очерки из ада честных», 1963).
Однако уже в начале 1960-х годов цензура наложила запрет на тематику «литературы расчета»: новые произведения перестали допускаться к печати, ранее опубликованные — не переиздавались и изымались из собраний сочинений авторов. Писатели, продолжавшие поднимать в своих книгах тему «расчетов с прошлым», подвергались гонениям.
Необходимость преодоления цензурных запретов привела к возрождению в польской литературе разного рода иносказательных поэтик: «исторического костюма», «географического псевдонима», «эзопова языка» и т. п. Большое распространение получила «параболическая историческая проза иносказаний и намеков» [7]: Я. Бохеньский («Божественный Юлий. Записки антиквара», 1961; «Назон — поэт», 1969), А. Щиперский «Месса по городу Аррас», 1971) и др.
На принципах параболы и «исторического костюма» строятся романы Ежи Анджеевского «Мрак покрывает землю» (1957) и «Врата рая» (1961), речь о который идет в следующих главах настоящей работы.
В 1960−70-е годы в Польше широко развивается и традиционный исторический роман, представленный творчеством Т. Парницкого, Х. Малевской, А. Кусьневича, В. Терлецкого. И все же к концу 1970-х годов становится очевидно, что ни осторожных аллюзий исторической прозы, ни прямолинейных обвинений «литературы расчета» для анализа и независимого критического осмысления действительности недостаточно. Потребность писателей «называть вещи своими именами» привела к появлению в конце 1970-х годов так называемой литературы «второго круга обращения», издававшейся и распространявшейся неофициально.
Ярким примером интеллектуально свободной польской прозы на современные темы могут служить романы Т. Конвицкого «Польский комплекс» (нелегальное издание — 1977) и «Малый апокалипсис» (опубликован в Лондоне в 1979-м году), а также роман Ежи Анджеевского «Месиво» (нелегальное издание в Польше — 1979-й год, переиздан в Лондоне в 1981-м году, официально издан в Польше в 1981-м году).
«Месиво» — характерный пример не только идеологического, но и эстетического бунта, под знаком которого развивалась польская литература после 1956-го года. В начале 1960-х годов писатели, хотя бы отчасти отвоевавшие себе право на художественный эксперимент, начали активно осваивать новые поэтики, повествовательные приемы и формы.
Наиболее существенные преобразования произошли в сфере жанра и стиля, где со временем сформировалась качественно новая система, основанная на принципах синкретизма, открытости текста и множественности интерпретаций.
Знаменательным явлением литературного процесса в послевоенной Польше стало преобладание разнообразных парабеллетристических жанров: дневника (появляются многочисленные прижизненные публикации дневников и воспоминаний писателей), эссе, репортажа, хроники и других разновидностей «литературы факта». Писатели нередко сознательно имитируют в своих произведениях форму хроники, дневника с элементами репортажа, воспоминаний: «Лабиринт» (1960) и «Бронзовые врата» (1960) Т. Брезы, «Личность» (1974) Т. Холуя.
В результате колебаний жанровой нормы в польской прозе 1960−70-х годов появляется ряд художественных текстов, сочетающих в себе элементы различных прозаических видов и форм: дневника, эссе, беллетризованных воспоминаний. Причем польские писатели не просто отходят от традиционного сюжетного повествования в пользу усиления личностного начала, но сознательно вводят в классическую автобиографическую прозу элементы пародии, вымысла, литературной игры: Т. Ружевич «Приготовления к авторскому вечеру» (1971), А. Рудницкий «Голубые странички» (1957), Т. Конвицкий «Календарь и клепсидра» (1976), «Всходы и заходы луны» (1982). Для жанровой классификации произведений такого рода стал использоваться термин «сильва» (от латинского silva rerum — лес вещей) [8].
В поисках адекватных средств выражения и новых форм контакта с читателем польские авторы, особенно молодые, вступившие в литературу в конце 1970-х годов, охотно обращаются к опыту иностранных писателей, иронически переосмысляют и демифологизируют традиционные для польской литературы сюжеты, отказываются от широко понимаемого историзма, отличавшего литературу предшествовавших десятилетий.
В конце 1980-х годов в Польше происходит массовое «открытие» постмодернизма. В посткоммунистической Польше новая — постмодернистская — парадигма художественности для многих стала символом новой эпохи, что, по справедливому замечанию И. Адельгейм, вполне объяснимо: «Политические перемены неизбежно ассоциировались с эстетическими и художественными новациями. Новая эпоха не могла остаться безымянной, а поскольку в области политики имени для нее не нашлось, его дало искусство» [9].
На волне всеобщего ажиотажа, подогреваемого типичной для Польши рубежа 1980−90-ых годов «жаждой литературной сенсации», постмодернистским, или даже более того — «первым постмодернистским» романом объявлялось едва ли не каждое второе произведение [10]. Тогда же были предприняты первые попытки экстраполировать эстетические установки постмодернизма на творчество писателей более раннего поколения, в чьих книгах впервые оформились те черты кризисного ощущения и переживания мира, которые (со свойственной им поэтикой) главным образом отличают постмодернистскую модель литературы. Одним из таких авторов был Ежи Анджеевский.
Глава 2
Проза Ежи Анджеевского 1936-1956-го годов
Анджеевский начал литературную карьеру в Варшаве, где родился и вырос. Героем его первых рассказов был «маленький человек», потерянный в огромном и непонятном мире, сотрясаемом глобальным экономическим кризисом начала 1930-ых годов.
Позже, когда Анджеевский попадает под влияние католического кружка, в его творчестве отчетливо начинают проявляться идеи экзистенциализма религиозного толка. На благодатной почве этих идей вырос первый большой роман Анджеевского — «Лад сердца» («Ład serca»), публиковавшийся в 1937−38-ом годах в еженедельнике «Просто с мосту» (книжное издание 1939).
В своем первом романе писатель исповедует своеобразный, отличный от распространенной «фрейдистской» модели психологизм, который А. Кийовский метко определил как «морализаторский»[11], т.к. психология персонажей является для Анджеевского главным образом почвой для постановки философских проблем и разрешения моральных конфликтов, полем для показательного столкновения сил Добра и Зла.
Роман «Лад сердца» принес Анджеевскому подлинное признание и популярность, в 1939-м году писатель получил за него премию еженедельника «Вядомости литерацке» («WiadomościLiterackie») и Награду Молодых, присуждаемую Польской Академией Литературы авторам, не достигшим 30-и лет.
Вторым большим этапом и испытанием в творческой судьбе Анджеевского стали годы фашисткой оккупации. В это время писатель активно работает и создает ряд повестей и рассказов на военную тематику: «Перед судом» («Przed sądem», 1941), «Интермеццо» («Intermezzo», 1942), «Перекличка» («Apel», 1942), «Путешествие» («Ucieczka», 1942−58), «Страстная неделя» («Wielki tydzień», 1943), «Кукушка» («Kukułka», 1944) и др., впоследствии составившие два сборника: «Ночь» (1945) и «Интермеццо и другие рассказы» (1983).
В них Анджеевского по-прежнему волнуют моральные
и экзистенциальные конфликты, обостренные отчаянными, беспощадными условиями войны: одиночество перед лицом смерти, ответственность за себя и близких, необходимость выбора в пограничной ситуации и поиск путей спасения. Военные рассказы Анджеевского почти полностью лишены героического пафоса: герои его военных произведений отнюдь не герои на поле боя. Как правило, это все те же «маленькие люди», случайно попавшие
в водоворот великой войны.
Переломным произведением в военном творчестве Анджеевского можно назвать рассказ «Страстная неделя» (1943). В отличие от героев других ранних произведений писателя герои «Страстной недели» не статичны, их характер показан в развитии. Изменилась и структура конфликта, который приобрел межличностный характер. Эти новые для Анджеевского художественные решения найдут свое развитие в его большом послевоенном романе «Пепел и алмаз» («Popół I diament», 1948).
Позже, когда Анджеевский попадает под влияние католического кружка, в его творчестве отчетливо начинают проявляться идеи экзистенциализма религиозного толка. На благодатной почве этих идей вырос первый большой роман Анджеевского — «Лад сердца» («Ład serca»), публиковавшийся в 1937−38-ом годах в еженедельнике «Просто с мосту» (книжное издание 1939).
В своем первом романе писатель исповедует своеобразный, отличный от распространенной «фрейдистской» модели психологизм, который А. Кийовский метко определил как «морализаторский»[11], т.к. психология персонажей является для Анджеевского главным образом почвой для постановки философских проблем и разрешения моральных конфликтов, полем для показательного столкновения сил Добра и Зла.
Роман «Лад сердца» принес Анджеевскому подлинное признание и популярность, в 1939-м году писатель получил за него премию еженедельника «Вядомости литерацке» («WiadomościLiterackie») и Награду Молодых, присуждаемую Польской Академией Литературы авторам, не достигшим 30-и лет.
Вторым большим этапом и испытанием в творческой судьбе Анджеевского стали годы фашисткой оккупации. В это время писатель активно работает и создает ряд повестей и рассказов на военную тематику: «Перед судом» («Przed sądem», 1941), «Интермеццо» («Intermezzo», 1942), «Перекличка» («Apel», 1942), «Путешествие» («Ucieczka», 1942−58), «Страстная неделя» («Wielki tydzień», 1943), «Кукушка» («Kukułka», 1944) и др., впоследствии составившие два сборника: «Ночь» (1945) и «Интермеццо и другие рассказы» (1983).
В них Анджеевского по-прежнему волнуют моральные
и экзистенциальные конфликты, обостренные отчаянными, беспощадными условиями войны: одиночество перед лицом смерти, ответственность за себя и близких, необходимость выбора в пограничной ситуации и поиск путей спасения. Военные рассказы Анджеевского почти полностью лишены героического пафоса: герои его военных произведений отнюдь не герои на поле боя. Как правило, это все те же «маленькие люди», случайно попавшие
в водоворот великой войны.
Переломным произведением в военном творчестве Анджеевского можно назвать рассказ «Страстная неделя» (1943). В отличие от героев других ранних произведений писателя герои «Страстной недели» не статичны, их характер показан в развитии. Изменилась и структура конфликта, который приобрел межличностный характер. Эти новые для Анджеевского художественные решения найдут свое развитие в его большом послевоенном романе «Пепел и алмаз» («Popół I diament», 1948).
Главным героем романа стал молодой солдат Армии Крайовой Мачей Хелмицкий, которому тайное руководство антикоммунистической оппозиции поручило застрелить секретаря районного отдела ППР. Мачей выполняет приказ ценой собственной жизни, хотя в душе понимает бессмысленность и безнадежность этого покушения на новый строй. В истории Хелмицкого отразилась трагедия всей послевоенной польской молодежи, разрывавшейся между императивом борьбы с навязанным режимом и желанием как можно скорее сложить оружие, ради возвращения к нормальной жизни.
Роман принес Анджеевскому неслыханную популярность
и одновременно вызвал массу противоречивых оценок. Власти вменяли в вину писателю «заигрывание» с вражеской идеологией и сочувствие «террористу» Хелмицкому. Другие читатели, и в их числе близкие друзья и знакомые самого Анджеевского, напротив, обвиняли писателя в искажении исторической правды, замалчивании фактов, политическом конформизме. Анджеевский болезненно воспринял критику в свой адрес, уверенность вернулась к нему только после получения премии журнала «Одродзене» («Odrodzenie») — летом 1948 года роман «Пепел и алмаз» был признан лучшей книгой последних 12-и месяцев.
Роман принес Анджеевскому неслыханную популярность
и одновременно вызвал массу противоречивых оценок. Власти вменяли в вину писателю «заигрывание» с вражеской идеологией и сочувствие «террористу» Хелмицкому. Другие читатели, и в их числе близкие друзья и знакомые самого Анджеевского, напротив, обвиняли писателя в искажении исторической правды, замалчивании фактов, политическом конформизме. Анджеевский болезненно воспринял критику в свой адрес, уверенность вернулась к нему только после получения премии журнала «Одродзене» («Odrodzenie») — летом 1948 года роман «Пепел и алмаз» был признан лучшей книгой последних 12-и месяцев.
С этого момента писатель жил и поступал так, «как будто в нем происходил ускоренный процесс акцептации марксистской доктрины»[12]. Ярким свидетельством этих перемен может служить программный манифест Анджеевского «Заметки. Признания и размышления писателя" («Notatki. Przyznania i rozmyślania pisarza», 1950), сборник репортажей «О советском человеке» («O człowieku radzieckim», 1952) и тенденциозная брошюра «Партия и творчество писателя» («Partia i twórczоść pisarza», 1952), в полной мере отразившая тогдашние представления Анджеевского роли писателя в социалистическом обществе.
Однако очарование идеалами коммунизма не продлилось долго. Уже вскоре в рассказах Анджеевского из сборника «Золотая лиса» появились элементы критики и недоверия по отношению к существующему строю. Анджеевский пародировал язык официальной пропаганды, выражал неуверенность в действиях партийных руководителей и сомнение в их непогрешимости. Именно эти темы станут доминантными в прозе Анджеевского после 1956 года, будут многократно преломляться и по-разному решаться в его последующих произведениях.
Однако очарование идеалами коммунизма не продлилось долго. Уже вскоре в рассказах Анджеевского из сборника «Золотая лиса» появились элементы критики и недоверия по отношению к существующему строю. Анджеевский пародировал язык официальной пропаганды, выражал неуверенность в действиях партийных руководителей и сомнение в их непогрешимости. Именно эти темы станут доминантными в прозе Анджеевского после 1956 года, будут многократно преломляться и по-разному решаться в его последующих произведениях.
Глава 3
Расчеты с прошлым в романе «Мрак покрывает землю»
Действие романа «Мрак покрывает землю» (1956) разворачивается в средневековой Испании. Однако, обращаясь к фактам средневековой истории, Анджеевский не стремится к полному историческому правдоподобию, напротив, повествование в книге только внешне стилизовано под исторический роман. Писатель использует реалии средневековой Европы как своеобразный «костюм», декорации, в которых разыгрывается далекий от исторической проблематики конфликт.
Атмосфера Испании ХV века, содрогавшейся от произвола
и бесчинств инквизиции, проецируется на реальность 1950-ых годов, превращая произведение Анджеевского в многоплановую философскую и политическую аллегорию, в параболу, далеко выходящую за границы жанра исторической прозы.
Суть параболы как повествовательной формы состоит в своеобразной «траектории» развития действия. Мысль в параболе движется как бы «по кривой», начинаясь и заканчиваясь одним предметом, а в середине удаляясь к другим, казалось бы, никак не связанным с ним объектам (отсюда название — «парабола», т.е. кривая, оба конца которой равноудалены от центра и устремлены в бесконечность).
Параболическая форма повествования восходит к жанру притчи и нередко отождествляется с ним, хотя современное литературоведение склонно разграничивать понятия «притча» и «парабола», понимая под притчей эпический жанр, представляющий собой краткий назидательный рассказ в аллегорической форме, а под параболой — специфический способ организации текста, характерный для притчи.
В основе параболы всегда лежит иносказание — отсылка к некому внеположному смыслу, который по тем или иным причинам не может быть передан прямо. В романе Анджеевского таким нуждающимся в иносказании смыслом становится критика политического и общественного строя послевоенной Европы. Для большинства современников писателя неистовый глава Инквизиции падре Торквемада обнаруживал заметное сходство с реальными политическими диктаторами — Сталиным и Гитлером, а эпоха его правления — со временами нацизма и «культа личности».
История молодого монаха Дьего, перешедшего на сторону инквизиции, в свою очередь, раскрывает историю личных заблуждений самого Анджеевского и многих его современников, долгое время поддерживавших социалистический режим.
На примере судьбы Дьего Анджеевский восстанавливает все те этапы последовательного попадания личности в зависимость от Идеи, через которые некогда довелось пройти ему самому и которые, как показывает писатель, действуют неизменно и безотказно на протяжении веков.
Благодаря аллюзиям на политическую современность, роман «Мрак покрывает землю» входит в число произведений, сформировавших в Польше так называемую «литературу расчета», в которой писатели, еще недавно целиком приверженные идеалам ПОРП, «сводили счеты» с недавним прошлым. Однако этим смысл произведения не ограничивается. Выстраивая свою политическую аллегорию, Анджеевский стремился не просто бросить вызов системе, но найти источник существующего в мире зла, раскрыть деморализующую силу власти.
Писатель приходит к выводу, что сила тоталитарных систем основывается на умелом использовании природных слабостей человека — тщеславия и страха. Именно страх, его природа и последствия являются главной темой в романе «Мрак покрывает землю». Писатель определяет тиранию по принципу всеобщего страха. «Тот, кто боится, тот виноват» — провозглашает один из героев романа.
По мысли Анджеевского, одно из наиболее опасных свойств террора — способность репродуцировать самого себя. Писатель предупреждает: система жива, пока живы люди системы.
В заключительном эпизоде романа, прозревший Торквемада на смертном одре поручает Дьего исполнить свою последнюю волю — распустить инквизицию, открыть тюрьмы, освободить незаконно арестованных. Однако рабски преданный своему принципалу монах не только не принимает покаяния Торквемады, но, отчаявшись его остановить, набрасывается на умирающего старика с кулаками. Осознав, что Великий инквизитор мертв, Дьего ударяет покойника по лицу.
Условность сюжетной конструкции романа компенсируется характерным для притчи символическим наполнением отдельных событий и образов. Конфликт Дьего и Торквемады можно рассматривать не только как столкновение двух взаимоисключающих идеологий — свободы и устрашения, но и как более глубокий, философский конфликт взаимного притяжения-отталкивания — молодости и старости, наивности и мудрости, душевной чистоты и калечащего жизненного опыта.
В изображении судеб своих героев писатель опирается на художественные открытия Достоевского, чье творчество всегда было ему близко, и одновременно наследует принципы античной и раннехристианской житийной литературы. Как указывает М. Бахтин, в житиях «дается обычно только два образа человека, разделенных и соединенных кризисом и перерождением — образ грешника (до перерождения) и образ праведника-святого (после кризиса и перерождения)…»[13].
Согласно этой модели строится романная судьба Торквемады, который переживает на последних страницах книги «спонтанное» перерождение в духе христианской житийной литературы. Судьба его преемника Дьего — это «житие наоборот». Перерождение молодого монаха после встречи с Великим инквизитором становится началом его падения, перехода на сторону сил зла, которым он и останется верен до конца.
Переворачивая традиционный житийный сюжет, Анджеевский подводит читателя к мысли о пессимистической концепции истории, в которой все повторяется и все возвращается, но часто без (или против) всякого смысла, в искаженных, перевернутых формах. Эта тема будет продолжена и в следующей книге писателя — микроромане «Врата рая».
Атмосфера Испании ХV века, содрогавшейся от произвола
и бесчинств инквизиции, проецируется на реальность 1950-ых годов, превращая произведение Анджеевского в многоплановую философскую и политическую аллегорию, в параболу, далеко выходящую за границы жанра исторической прозы.
Суть параболы как повествовательной формы состоит в своеобразной «траектории» развития действия. Мысль в параболе движется как бы «по кривой», начинаясь и заканчиваясь одним предметом, а в середине удаляясь к другим, казалось бы, никак не связанным с ним объектам (отсюда название — «парабола», т.е. кривая, оба конца которой равноудалены от центра и устремлены в бесконечность).
Параболическая форма повествования восходит к жанру притчи и нередко отождествляется с ним, хотя современное литературоведение склонно разграничивать понятия «притча» и «парабола», понимая под притчей эпический жанр, представляющий собой краткий назидательный рассказ в аллегорической форме, а под параболой — специфический способ организации текста, характерный для притчи.
В основе параболы всегда лежит иносказание — отсылка к некому внеположному смыслу, который по тем или иным причинам не может быть передан прямо. В романе Анджеевского таким нуждающимся в иносказании смыслом становится критика политического и общественного строя послевоенной Европы. Для большинства современников писателя неистовый глава Инквизиции падре Торквемада обнаруживал заметное сходство с реальными политическими диктаторами — Сталиным и Гитлером, а эпоха его правления — со временами нацизма и «культа личности».
История молодого монаха Дьего, перешедшего на сторону инквизиции, в свою очередь, раскрывает историю личных заблуждений самого Анджеевского и многих его современников, долгое время поддерживавших социалистический режим.
На примере судьбы Дьего Анджеевский восстанавливает все те этапы последовательного попадания личности в зависимость от Идеи, через которые некогда довелось пройти ему самому и которые, как показывает писатель, действуют неизменно и безотказно на протяжении веков.
Благодаря аллюзиям на политическую современность, роман «Мрак покрывает землю» входит в число произведений, сформировавших в Польше так называемую «литературу расчета», в которой писатели, еще недавно целиком приверженные идеалам ПОРП, «сводили счеты» с недавним прошлым. Однако этим смысл произведения не ограничивается. Выстраивая свою политическую аллегорию, Анджеевский стремился не просто бросить вызов системе, но найти источник существующего в мире зла, раскрыть деморализующую силу власти.
Писатель приходит к выводу, что сила тоталитарных систем основывается на умелом использовании природных слабостей человека — тщеславия и страха. Именно страх, его природа и последствия являются главной темой в романе «Мрак покрывает землю». Писатель определяет тиранию по принципу всеобщего страха. «Тот, кто боится, тот виноват» — провозглашает один из героев романа.
По мысли Анджеевского, одно из наиболее опасных свойств террора — способность репродуцировать самого себя. Писатель предупреждает: система жива, пока живы люди системы.
В заключительном эпизоде романа, прозревший Торквемада на смертном одре поручает Дьего исполнить свою последнюю волю — распустить инквизицию, открыть тюрьмы, освободить незаконно арестованных. Однако рабски преданный своему принципалу монах не только не принимает покаяния Торквемады, но, отчаявшись его остановить, набрасывается на умирающего старика с кулаками. Осознав, что Великий инквизитор мертв, Дьего ударяет покойника по лицу.
Условность сюжетной конструкции романа компенсируется характерным для притчи символическим наполнением отдельных событий и образов. Конфликт Дьего и Торквемады можно рассматривать не только как столкновение двух взаимоисключающих идеологий — свободы и устрашения, но и как более глубокий, философский конфликт взаимного притяжения-отталкивания — молодости и старости, наивности и мудрости, душевной чистоты и калечащего жизненного опыта.
В изображении судеб своих героев писатель опирается на художественные открытия Достоевского, чье творчество всегда было ему близко, и одновременно наследует принципы античной и раннехристианской житийной литературы. Как указывает М. Бахтин, в житиях «дается обычно только два образа человека, разделенных и соединенных кризисом и перерождением — образ грешника (до перерождения) и образ праведника-святого (после кризиса и перерождения)…»[13].
Согласно этой модели строится романная судьба Торквемады, который переживает на последних страницах книги «спонтанное» перерождение в духе христианской житийной литературы. Судьба его преемника Дьего — это «житие наоборот». Перерождение молодого монаха после встречи с Великим инквизитором становится началом его падения, перехода на сторону сил зла, которым он и останется верен до конца.
Переворачивая традиционный житийный сюжет, Анджеевский подводит читателя к мысли о пессимистической концепции истории, в которой все повторяется и все возвращается, но часто без (или против) всякого смысла, в искаженных, перевернутых формах. Эта тема будет продолжена и в следующей книге писателя — микроромане «Врата рая».
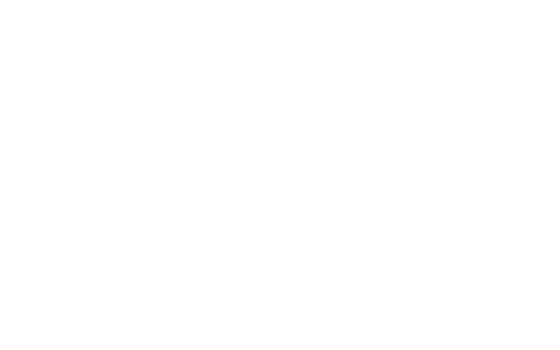
Фрагмент спектакля «Мрак покрывает землю» по роману Ежи Анджеевского в Новом театре им. К. Деймка в Лодзи. 1957-й год
Фото: nowy.pl
Фото: nowy.pl
Глава 4
Микророман «Врата рая» как роман-парабола
В основе сюжета «Врат рая» лежит история крестового похода детей, имевшего место в Германии и Франции в середине ХII века. Концентрический сюжет включает в себя события одной летней ночи, в ходе которой юные вдохновители похода — дети из Клуа с пастушонком Жаком во главе — исповедуются единственному взрослому герою книги — старику-священнику, сопровождающему многотысячную толпу подростков. Один за другим пятеро юных организаторов похода рассказывают старому монаху всю правду о своем прошлом и о тех мотивах, которые побудили их вступить на полный трудностей и лишений путь к иерусалимским вратам.
Сопоставляя детали и факты из признаний, размышлений и воспоминаний детей, священник, а вместе с ним и читатель, раскрывает для себя подлинную подоплеку событий: подростками движет грязная похоть, фанатизм, страх, отчаяние, либо злая воля других людей. Потрясенный священник пытается остановить «поход зла», но погибает под ногами детей и, умирая, все же благословляет их. А ослепленные фанатизмом дети продолжают движение к своей призрачной цели и к неминуемой гибели.
Сопоставляя детали и факты из признаний, размышлений и воспоминаний детей, священник, а вместе с ним и читатель, раскрывает для себя подлинную подоплеку событий: подростками движет грязная похоть, фанатизм, страх, отчаяние, либо злая воля других людей. Потрясенный священник пытается остановить «поход зла», но погибает под ногами детей и, умирая, все же благословляет их. А ослепленные фанатизмом дети продолжают движение к своей призрачной цели и к неминуемой гибели.
«Врата рая» — произведение сложное и многогранное. Несмотря на свой небольшой объем (около 90 печатных страниц), книга Анджеевского изобилует множеством инновационных, если не сказать революционных художественных решений. Писатель оформляет текст книги как одно огромное предложение без пауз и точек (всего в книге две фразы, последняя: «И они шли целую ночь» — завершает ее), использует временную инверсию, ведет повествование одновременно от лица нескольких рассказчиков, «перебивающих» друг друга и т. п.
Все это затрудняет однозначную жанровую и стилевую идентификацию «Врат рая». Вопрос о жанре произведения до конца не решен. Как польские, так и иностранные исследователи раз за разом называют книгу Анджеевского то романом (powieść), то повестью или «большим рассказом» (przypowieść, duże opowiadanie), либо используют метафорические определения: Г. Береза и З. Жабицкий называют «Врата рая» «рапсодией"[14], автор русского предисловия к книге В. Британишский считает, что «Врата рая» «вернее, пожалуй, назвать поэмой в прозе"[15].
Нам представляется, что с точки зрения жанровой идентификации произведения Анджеевского наиболее удачным является термин «микророман». В микроромане романный сюжет как бы упакован в новеллическую оболочку, т. е. энергия и потенциал большого романа аккумулированы при минимуме изобразительных средств на минимальной печатной площади.
Свой микророман Анджеевский выстраивает по принципу параболы, используя апокрифический сюжет о крестовом походе детей как основу для развертывания непростой — моральной и философской — ситуации, метафорически соотносимой с современностью. Средневековая притча превращается во «Вратах рая» в насыщенную актуальными смыслами экзистенциальную параболу, развертыванию которой подчиняется вся архитектоника текста.
Интерпретировать параболу Анджеевского можно на нескольких срезах: историческом, политическом, философском / экзистенциальном и религиозном / моральном. Положив в основу сюжета историческое событие XIII века, автор абстрагируется от исторических примет конкретной эпохи. Анджеевский оформляет свой микророман скорее не как историческую повесть, а как средневековую фреску, в которой фигуры персонажей и место действия событий намечены яркими красками.
В параболе Анджеевского символическое значение приобретают почти все художественные описания и детали: алый плащ Алексея Мелиссена — символ плотской страсти и одновременно символ лидерства, избранности владельца, ступни священника, тяжело ступающие по земле — символ фаталистического движения к гибели. Отчетливую символическую функцию выполняют и описания природы, которые подчеркивают вневременный и внетерриториальный характер событий книги.
Для современников Анджеевского был очевиден и политический подтекст его микроромана. История похода к мистическим «вратам рая» прочитывалась как история стремления к коммунистическому «светлому будущему», а пессимистический финал книги — как свидетельство недостижимости подобной цели.
На примере поступков горстки средневековых подростков Анджеевский наглядно показал, как великая и прекрасная цель на поверку оказывается лишь предлогом для достижения чьих-то собственнических и нередко порочных интересов.
Во «Вратах рая» писатель продолжил ту исповедальную стилистику, начало которой было положено в романе «Мрак покрывает землю». Желание «рассчитаться» с прошлыми заблуждениями и ошибками угадывается во «Вратах рая» не только в выборе темы, но и в способе ее раскрытия. Дети — герои Анджеевского — исповедуются старику-священнику в своих далеко не детских грехах, а вместе с ними исповедуется в своих недавних ошибках и безличный рассказчик, и сам автор. Охваченный желанием высказаться, снять грех с души, выплеснуть в словесном потоке наружу все то, что наболело, он забывает про точки и паузы, нарушает правила пунктуации, перескакивает с одной мысли на другую.
Все это затрудняет однозначную жанровую и стилевую идентификацию «Врат рая». Вопрос о жанре произведения до конца не решен. Как польские, так и иностранные исследователи раз за разом называют книгу Анджеевского то романом (powieść), то повестью или «большим рассказом» (przypowieść, duże opowiadanie), либо используют метафорические определения: Г. Береза и З. Жабицкий называют «Врата рая» «рапсодией"[14], автор русского предисловия к книге В. Британишский считает, что «Врата рая» «вернее, пожалуй, назвать поэмой в прозе"[15].
Нам представляется, что с точки зрения жанровой идентификации произведения Анджеевского наиболее удачным является термин «микророман». В микроромане романный сюжет как бы упакован в новеллическую оболочку, т. е. энергия и потенциал большого романа аккумулированы при минимуме изобразительных средств на минимальной печатной площади.
Свой микророман Анджеевский выстраивает по принципу параболы, используя апокрифический сюжет о крестовом походе детей как основу для развертывания непростой — моральной и философской — ситуации, метафорически соотносимой с современностью. Средневековая притча превращается во «Вратах рая» в насыщенную актуальными смыслами экзистенциальную параболу, развертыванию которой подчиняется вся архитектоника текста.
Интерпретировать параболу Анджеевского можно на нескольких срезах: историческом, политическом, философском / экзистенциальном и религиозном / моральном. Положив в основу сюжета историческое событие XIII века, автор абстрагируется от исторических примет конкретной эпохи. Анджеевский оформляет свой микророман скорее не как историческую повесть, а как средневековую фреску, в которой фигуры персонажей и место действия событий намечены яркими красками.
В параболе Анджеевского символическое значение приобретают почти все художественные описания и детали: алый плащ Алексея Мелиссена — символ плотской страсти и одновременно символ лидерства, избранности владельца, ступни священника, тяжело ступающие по земле — символ фаталистического движения к гибели. Отчетливую символическую функцию выполняют и описания природы, которые подчеркивают вневременный и внетерриториальный характер событий книги.
Для современников Анджеевского был очевиден и политический подтекст его микроромана. История похода к мистическим «вратам рая» прочитывалась как история стремления к коммунистическому «светлому будущему», а пессимистический финал книги — как свидетельство недостижимости подобной цели.
На примере поступков горстки средневековых подростков Анджеевский наглядно показал, как великая и прекрасная цель на поверку оказывается лишь предлогом для достижения чьих-то собственнических и нередко порочных интересов.
Во «Вратах рая» писатель продолжил ту исповедальную стилистику, начало которой было положено в романе «Мрак покрывает землю». Желание «рассчитаться» с прошлыми заблуждениями и ошибками угадывается во «Вратах рая» не только в выборе темы, но и в способе ее раскрытия. Дети — герои Анджеевского — исповедуются старику-священнику в своих далеко не детских грехах, а вместе с ними исповедуется в своих недавних ошибках и безличный рассказчик, и сам автор. Охваченный желанием высказаться, снять грех с души, выплеснуть в словесном потоке наружу все то, что наболело, он забывает про точки и паузы, нарушает правила пунктуации, перескакивает с одной мысли на другую.
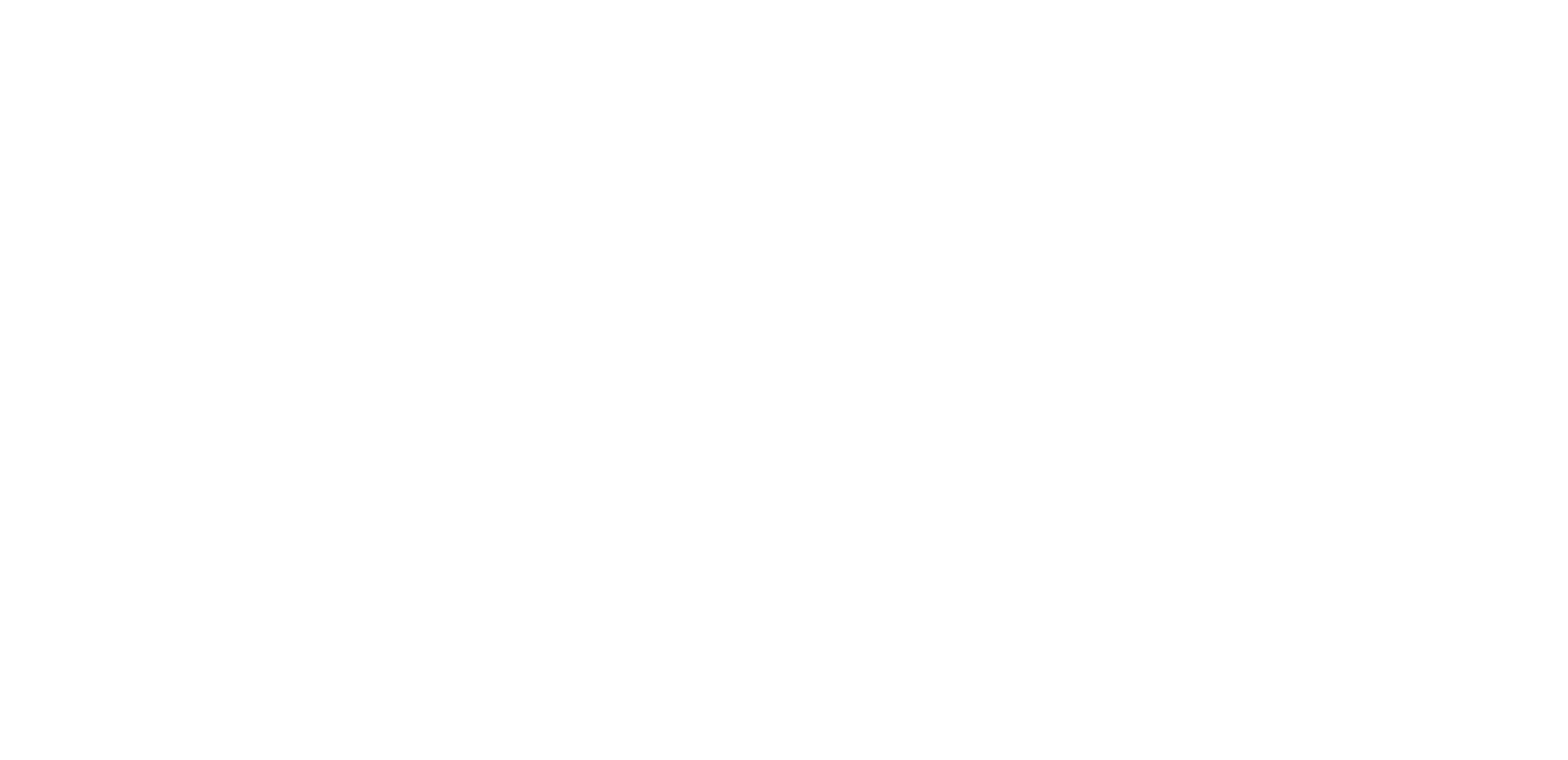
Фрагмент машинописной копии романа Е. Анджеевского «Врата рая»
Источник: docer.pl
Источник: docer.pl
Отказ от точек, нарушение привычных норм пунктуации было программным для Анджеевского. Лишенное пауз повествование совпадает с ритмом движения похода: останавливаться нельзя! Непрерывность и монотонность движения детей на бумаге превращается в непрерывный поток слов, разрастающихся, хаотично множащихся, наслаивающихся друг на друга. Такая расслаивающаяся, саморепродуцирующая структура позволяет говорить о «Вратах рая» как о тексте-ризоме (термин Ж. Делёза и Ф. Гваттари) [16].
Активно используя во «Вратах рая» технику «потока сознания», Анджеевский не только детально описывает мысли, чувства, процессы душевной жизни, переживания и размышления героев, но и экспериментирует со временем, применяя принцип временного и пространственного симультанизма.
Проблема времени — одна из ключевых во «Вратах рая». В ее решении отмечается антиклассический подход, проявляющийся в отказе от хроникальности, в расчленении внутреннего и внешнего темпов повествования. Время у Анджеевского — психологическое, субъективное, эмоционально насыщенное, со множеством ассоциативных связей. Каждый герой вносит в повествование свои ритмы, в результате время во «Вратах рая» представлено максимально индивидуально.
Особое значение в прозе Анджеевского приобретает связь времени и пространства, которая во «Вратах рая» отчетливее всего реализуется через архетип движения. Парабола Анджеевского опирается на идею Крестового похода как символа вечного, общечеловеческого движения — в поисках истины, идеального мира, Царства Божия на земле. Герои Анджеевского стремятся к иерусалимским вратам, отождествившимся для средневековой Европы с вратами небесными, а движутся к собственной гибели, которую нельзя ни отсрочить, ни предотвратить. И вместе с ними к заведомой гибели движется весь мир, все человечество.
Во «Вратах рая» Анджеевский транслирует пантрагическую концепцию истории, движимой человеческими пороками и страстями. Путь к вратам рая, по мысли писателя, оказывается дорогой в ад, вымощенной благими намерениями, потайными желаниями и роковыми ошибками.
Предложенная Анджеевским концепция конфликтует с традиционной христианской трактовкой событий. Глубину несовпадения авторского мировоззрения и традиционных религиозных постулатов усиливает манера и форма повествования, тонко стилизованного под различные жанры христианской литературы: жития, видения, поучения, притчи.
В результате «Врата рая» можно рассматривать как многоплановую экзистенциалистскую параболу, которая, будучи оригинальным «документом своей эпохи», вот уже пол века остается современной по типу мышления и находит отклик в умах и сердцах многих читателей, как в Польше, так и за ее пределами.
Активно используя во «Вратах рая» технику «потока сознания», Анджеевский не только детально описывает мысли, чувства, процессы душевной жизни, переживания и размышления героев, но и экспериментирует со временем, применяя принцип временного и пространственного симультанизма.
Проблема времени — одна из ключевых во «Вратах рая». В ее решении отмечается антиклассический подход, проявляющийся в отказе от хроникальности, в расчленении внутреннего и внешнего темпов повествования. Время у Анджеевского — психологическое, субъективное, эмоционально насыщенное, со множеством ассоциативных связей. Каждый герой вносит в повествование свои ритмы, в результате время во «Вратах рая» представлено максимально индивидуально.
Особое значение в прозе Анджеевского приобретает связь времени и пространства, которая во «Вратах рая» отчетливее всего реализуется через архетип движения. Парабола Анджеевского опирается на идею Крестового похода как символа вечного, общечеловеческого движения — в поисках истины, идеального мира, Царства Божия на земле. Герои Анджеевского стремятся к иерусалимским вратам, отождествившимся для средневековой Европы с вратами небесными, а движутся к собственной гибели, которую нельзя ни отсрочить, ни предотвратить. И вместе с ними к заведомой гибели движется весь мир, все человечество.
Во «Вратах рая» Анджеевский транслирует пантрагическую концепцию истории, движимой человеческими пороками и страстями. Путь к вратам рая, по мысли писателя, оказывается дорогой в ад, вымощенной благими намерениями, потайными желаниями и роковыми ошибками.
Предложенная Анджеевским концепция конфликтует с традиционной христианской трактовкой событий. Глубину несовпадения авторского мировоззрения и традиционных религиозных постулатов усиливает манера и форма повествования, тонко стилизованного под различные жанры христианской литературы: жития, видения, поучения, притчи.
В результате «Врата рая» можно рассматривать как многоплановую экзистенциалистскую параболу, которая, будучи оригинальным «документом своей эпохи», вот уже пол века остается современной по типу мышления и находит отклик в умах и сердцах многих читателей, как в Польше, так и за ее пределами.
Глава 5
До и после «Месива»: роман «Идет, скачет по горам» и повести конца 1960-ых — начала 1980-ых годов
История романа Ежи Анджеевского «Месиво» начинается весной 1960-го года. Именно в это время писатель впервые обращается к материалам для новой книги, задуманной как вымышленная биография знаменитого польского литератора — ровесника и свидетеля века, получившего имя Адам Нагурский.
Работа над новой книгой протекала непросто и не раз неожиданно резко меняла русло. На одном из этапов работы над книгой писатель принял решение превратить текст из традиционного романа-биографии в подборку фактов и беспристрастных суждений о герое, объединенных по принципу коллажа или инсталляции. Именно в связи с этим замыслом в черновиках писателя впервые появляется название «Месиво», отражающее «полную свободу формы», которую Анджеевский задумал как отличительную особенность новой книги.
В начале 1960-ого года Анджеевский прервал работу над романом о писателе. Полный впечатлений о недавней поездке в Париж он приступил к работе над новым произведением — романом «Идет, скачет по горам» (1963). Главным героем книги стал 78-летний художник Антонио Ортис, за образом которого без труда угадывается фигура Пабло Руиса Пикассо.
Роман «Идет, скачет по горам», как и другие более ранние произведения Анджеевского, тяготеет к концентрическому сюжету. Все художественное время книги сосредоточено в промежутке между двумя моментами: встречей Ортиса, переживающего глубокий духовный и творческий кризис со своей новой музой (22-летней фотомоделью Франсуазой Пелье) и моментом торжественного открытия выставки ее портретов, созданных художником.
Выставка — ключевой эпизод романа. Здесь сходятся и пересекаются все остальные сюжетные линии, здесь встречаются поклонники таланта Ортиса, его тайные и явные недоброжелатели. Выстраивая композицию своего романа, писатель вновь прибегает к принципу пространственного и временного симультанизма.
Симультанность повествования позволяет Анджеевскому создать роман масштабный, широкий по охвату лиц и событий, но одновременно исключительно динамичный, активный, даже подвижный (к «Идет, скачет по горам» вполне приложим термин «роман в движении» — форма, которую Анджеевский в полной мере реализует в «Месиве»).
Роман «Идет, скачет по горам» можно читать как «роман с ключом». За литературными образами и мизансценами романа без труда угадываются реальные действующие лица и события светской хроники конца 1960-ых годов. Прототипами героев романа, помимо уже упомянутого Пабло Пикассо, стали: Франсуа Мориак, Марек Хласко, Жан Кокто, Теннеси Уильямс, Жан-Поль Бельмондо и другие известные персоны европейской артистической элиты, показанные Анджеевским зачастую в далеко не выигрышном свете. Это предопределило судьбу книги: за романом прочно закрепилась слава памфлета, пасквиля, карикатуры.
Однако, как справедливо отмечает В. Британишский, если это и карикатура, то — раблезианская. «Есть в этой вещи раблезианская уверенность в том, что жизнь всегда права, всегда торжествует над фальшью, мертвечиной, абстракцией. Эта уверенность воплощается в фигуре вечно молодого и вечно творчески (и сексуально) продуктивного <…> художника Антонио Ортиса"[17].
В романе присутствуют две оценки художника: первая — восхищенная, которую разделяет повествователь и редкие истинные ценители его искусства, вторая — язвительная, присущая обывателям. Однако конфликт романа не сводится к драме непонимания между творцом и окружающей его толпой филистеров, как это было в романах эпохи «Молодой Польши». В отличие от других — одиноких и непризнанных — гениев, вынужденных умирать в нищете, Ортис удачлив в искусстве и в любви.
Драма Ортиса в том, что боги не прощают удачливых. Он, 78-летний «старикан», жив и полон сил, а его молодая хрупкая возлюбленная погибает, не пережив разочарования в нем — своем небожителе. Анджеевский оставляет «за кадром» ответ на вопрос, была ли смерть Франсуазы трагической случайностью (девушка погибает под колесами автомобиля, убегая от преследующих ее журналистов) или самоубийством, но, так или иначе, ответственность за ее преждевременную гибель лежит на Ортисе. В своем неуемном стремлении продлить молодость (в образе Ортиса нетрудно увидеть парафраз фаустовского мифа), он не заметил, как лишил юную возлюбленную жизненных сил. Для девушки оказалась невыносимой мысль об изменах Ортиса, тем более совершенных с другими мужчинами.
Работа над новой книгой протекала непросто и не раз неожиданно резко меняла русло. На одном из этапов работы над книгой писатель принял решение превратить текст из традиционного романа-биографии в подборку фактов и беспристрастных суждений о герое, объединенных по принципу коллажа или инсталляции. Именно в связи с этим замыслом в черновиках писателя впервые появляется название «Месиво», отражающее «полную свободу формы», которую Анджеевский задумал как отличительную особенность новой книги.
В начале 1960-ого года Анджеевский прервал работу над романом о писателе. Полный впечатлений о недавней поездке в Париж он приступил к работе над новым произведением — романом «Идет, скачет по горам» (1963). Главным героем книги стал 78-летний художник Антонио Ортис, за образом которого без труда угадывается фигура Пабло Руиса Пикассо.
Роман «Идет, скачет по горам», как и другие более ранние произведения Анджеевского, тяготеет к концентрическому сюжету. Все художественное время книги сосредоточено в промежутке между двумя моментами: встречей Ортиса, переживающего глубокий духовный и творческий кризис со своей новой музой (22-летней фотомоделью Франсуазой Пелье) и моментом торжественного открытия выставки ее портретов, созданных художником.
Выставка — ключевой эпизод романа. Здесь сходятся и пересекаются все остальные сюжетные линии, здесь встречаются поклонники таланта Ортиса, его тайные и явные недоброжелатели. Выстраивая композицию своего романа, писатель вновь прибегает к принципу пространственного и временного симультанизма.
Симультанность повествования позволяет Анджеевскому создать роман масштабный, широкий по охвату лиц и событий, но одновременно исключительно динамичный, активный, даже подвижный (к «Идет, скачет по горам» вполне приложим термин «роман в движении» — форма, которую Анджеевский в полной мере реализует в «Месиве»).
Роман «Идет, скачет по горам» можно читать как «роман с ключом». За литературными образами и мизансценами романа без труда угадываются реальные действующие лица и события светской хроники конца 1960-ых годов. Прототипами героев романа, помимо уже упомянутого Пабло Пикассо, стали: Франсуа Мориак, Марек Хласко, Жан Кокто, Теннеси Уильямс, Жан-Поль Бельмондо и другие известные персоны европейской артистической элиты, показанные Анджеевским зачастую в далеко не выигрышном свете. Это предопределило судьбу книги: за романом прочно закрепилась слава памфлета, пасквиля, карикатуры.
Однако, как справедливо отмечает В. Британишский, если это и карикатура, то — раблезианская. «Есть в этой вещи раблезианская уверенность в том, что жизнь всегда права, всегда торжествует над фальшью, мертвечиной, абстракцией. Эта уверенность воплощается в фигуре вечно молодого и вечно творчески (и сексуально) продуктивного <…> художника Антонио Ортиса"[17].
В романе присутствуют две оценки художника: первая — восхищенная, которую разделяет повествователь и редкие истинные ценители его искусства, вторая — язвительная, присущая обывателям. Однако конфликт романа не сводится к драме непонимания между творцом и окружающей его толпой филистеров, как это было в романах эпохи «Молодой Польши». В отличие от других — одиноких и непризнанных — гениев, вынужденных умирать в нищете, Ортис удачлив в искусстве и в любви.
Драма Ортиса в том, что боги не прощают удачливых. Он, 78-летний «старикан», жив и полон сил, а его молодая хрупкая возлюбленная погибает, не пережив разочарования в нем — своем небожителе. Анджеевский оставляет «за кадром» ответ на вопрос, была ли смерть Франсуазы трагической случайностью (девушка погибает под колесами автомобиля, убегая от преследующих ее журналистов) или самоубийством, но, так или иначе, ответственность за ее преждевременную гибель лежит на Ортисе. В своем неуемном стремлении продлить молодость (в образе Ортиса нетрудно увидеть парафраз фаустовского мифа), он не заметил, как лишил юную возлюбленную жизненных сил. Для девушки оказалась невыносимой мысль об изменах Ортиса, тем более совершенных с другими мужчинами.
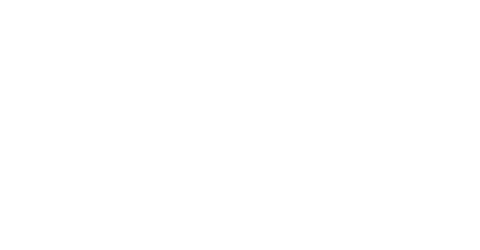
Пабло Пикассо — прототип главного героя романа «Идет, скачет по горам»
Фото: barcelona.de
Фото: barcelona.de
В 1962 году Анджеевский вновь вернулся к работе над «Месивом», однако в совершенно новом ключе. Писателем завладела идея создать книгу о современной польской свадьбе, «перелицевав» на новый лад знаменитую романтическую драму С. Выспяньского «Свадьба». На роли жениха и невесты была выбрана пара варшавских актеров — «звезда» сцены Конрад Келлер и дочка партийного босса Моника Панек (писатель Нагурский оказался среди гостей на многолюдном свадебном торжестве).
Повесть о свадьбе, анонсированная как первые главы большого романа, была напечатана в октябре 1966 года в журнале «Твурчость» и вызвала большой резонанс. Анджеевский активно продолжал работу над книгой, но во время одной из поездок в Европу рукописи новых глав будущего романа были украдены и безвозвратно пропали. Работа над «Месивом» вновь была прервана.
В 1967 году писатель написал одну из лучших своих повестей — «Апелляция». Герой повести — рядовой польский гражданин Марианн Конечный — уверен, что находится под наблюдением агентов контрразведки и, возможно, даже «электронного мозга». Доведенный до отчаяния этим мнимым преследованием, герой решается на последний шаг — пишет апелляцию самому Гражданину Первому Секретарю ЦК ПОРП, в которой излагает историю всей своей непростой жизни.
Развитие действия в «Апелляции» строится на противоречии между тем, что говорит душевнобольной герой-рассказчик, и тем, что просвечивает сквозь его слова, сквозь его манеру высказываться. История Конечного, рассказанная им «как на духу», с обезоруживающей искренностью и простотой, открывает читателю всю правду об устрашении, шантаже, подкупах и злоупотреблениях государственных чиновников и безнадежном, нищенском существовании рядовой польской семьи. Такой герой, казалось бы, не может не вызывать сочувствия — как авторского, так и читательского.
Однако суть сюжетного движения повести в том, что Конечный оказывается не только жертвой, но и созидателем калечащей его системы, незаменимым «винтиком» в беспощадной тоталитарной машине. Здесь Анджеевский вновь возвращается к мысли о том, что система как таковая существует только благодаря тому, что существуют «люди системы». «Безумная» действительность современной Польши уравнивает жертву и угнетателя, гонимого и гонителя. Конечный болен, но больна и страна, его породившая.
Цензура не допустила повесть к печати, и в 1968-м году Анджеевский опубликовал «Апелляцию» в Париже. В это же время писатель вновь, после долгого перерыва, возвращается к работе над «Месивом». Работа над романом была окончательно завершена в сентябре 1970-го года. В течение почти двух лет писатель вел переговоры с издательствами о возможности публикации романа в Польше, вносил затребованные цензурой правки и сокращения, однако согласия на публикацию так и не получил. Переговоры об издании романа за границей также зашли в тупик. Книгу, которой Анджеевский посвятил 10 лет жизни и которую без преувеличения считал своей «лебединой песнью», пришлось отложить в долгий ящик.
В конце 1970-ых годов пожилой, утративший здоровье писатель все реже обращается к литературному творчеству. С 1975-го по 1981-й год Анджеевский пишет всего три повести: «Вот и конец тебе» («Teraz na ciebie zagłada», 1975), «Уже почти ничего» («Już prawie nic», 1976) и «Никто» («Nikt», 1981).
В повести «Вот — и конец тебе», название которой восходит к стиху из пророка Изекиля, писатель предлагает новую трактовку ветхозаветного мифа о первородном грехе и первом совершенном на земле преступлении — убийстве Каином своего брата Авеля. Классический ветхозаветный сюжет интерпретируется с новых позиций: в поступках библейских героев Анджеевский усматривает подтверждение мысли о первобытности и неизменности основных аксиом человеческого существования: любви и ревности, зависти и борьбы за власть, заблуждений и самообмана.
В повести «Уже почти ничего» Анджеевский вновь (после романов «Идет, скачет по горам» и «Месиво») обращается к теме судьбы художника, объединяя этот мотив с еще одной значимой для себя темой — самоощущением человека, находящегося на пороге старости, в полной мере сознающего близость и неотвратимость конца. Британишский пишет: «Если первая книга Анджеевского о старом художнике — «Идет, скачет по горам» — была трагической, иронической, сатирической, но жизнеутверждающей, то новая вещь о старости и смерти глубоко пессимистична»[18].
Смерти и разочарованию посвящен и последний законченный текст Анджеевского — повесть «Никто», в которой писатель обращается к мотивам «Одиссеи» Гомера. Из многочисленных мифов о древнегреческом герое, неоднократно использовавшихся в мировой литературе, Анджеевский выбирает последнее путешествие Одиссея, ставшее окончательным поражением и причиной смерти героя.
«Никто» — философская повесть-притча, сложная и необычная с точки зрения конструкции и авторского замысла, полная аллюзий и многозначных подтекстов. «Я называюсь НИКТО» — говорит о себе Одиссей, а «НИКТО — стало быть, всякий человек»[19].
Последние повести Анджеевского демонстрируют окончательный отход писателя от традиционной эпической манеры повествования. Анджеевский оформляет свои поздние тексты скорее как дневниковые заметки или черновики, допуская нелинейность и прерывистость действия, вкрапления авторского текста, смешение контрастирующих повествовательных техник и стилей. Все эти характерные черты можно найти и в поэтике романа «Месиво».
Повесть о свадьбе, анонсированная как первые главы большого романа, была напечатана в октябре 1966 года в журнале «Твурчость» и вызвала большой резонанс. Анджеевский активно продолжал работу над книгой, но во время одной из поездок в Европу рукописи новых глав будущего романа были украдены и безвозвратно пропали. Работа над «Месивом» вновь была прервана.
В 1967 году писатель написал одну из лучших своих повестей — «Апелляция». Герой повести — рядовой польский гражданин Марианн Конечный — уверен, что находится под наблюдением агентов контрразведки и, возможно, даже «электронного мозга». Доведенный до отчаяния этим мнимым преследованием, герой решается на последний шаг — пишет апелляцию самому Гражданину Первому Секретарю ЦК ПОРП, в которой излагает историю всей своей непростой жизни.
Развитие действия в «Апелляции» строится на противоречии между тем, что говорит душевнобольной герой-рассказчик, и тем, что просвечивает сквозь его слова, сквозь его манеру высказываться. История Конечного, рассказанная им «как на духу», с обезоруживающей искренностью и простотой, открывает читателю всю правду об устрашении, шантаже, подкупах и злоупотреблениях государственных чиновников и безнадежном, нищенском существовании рядовой польской семьи. Такой герой, казалось бы, не может не вызывать сочувствия — как авторского, так и читательского.
Однако суть сюжетного движения повести в том, что Конечный оказывается не только жертвой, но и созидателем калечащей его системы, незаменимым «винтиком» в беспощадной тоталитарной машине. Здесь Анджеевский вновь возвращается к мысли о том, что система как таковая существует только благодаря тому, что существуют «люди системы». «Безумная» действительность современной Польши уравнивает жертву и угнетателя, гонимого и гонителя. Конечный болен, но больна и страна, его породившая.
Цензура не допустила повесть к печати, и в 1968-м году Анджеевский опубликовал «Апелляцию» в Париже. В это же время писатель вновь, после долгого перерыва, возвращается к работе над «Месивом». Работа над романом была окончательно завершена в сентябре 1970-го года. В течение почти двух лет писатель вел переговоры с издательствами о возможности публикации романа в Польше, вносил затребованные цензурой правки и сокращения, однако согласия на публикацию так и не получил. Переговоры об издании романа за границей также зашли в тупик. Книгу, которой Анджеевский посвятил 10 лет жизни и которую без преувеличения считал своей «лебединой песнью», пришлось отложить в долгий ящик.
В конце 1970-ых годов пожилой, утративший здоровье писатель все реже обращается к литературному творчеству. С 1975-го по 1981-й год Анджеевский пишет всего три повести: «Вот и конец тебе» («Teraz na ciebie zagłada», 1975), «Уже почти ничего» («Już prawie nic», 1976) и «Никто» («Nikt», 1981).
В повести «Вот — и конец тебе», название которой восходит к стиху из пророка Изекиля, писатель предлагает новую трактовку ветхозаветного мифа о первородном грехе и первом совершенном на земле преступлении — убийстве Каином своего брата Авеля. Классический ветхозаветный сюжет интерпретируется с новых позиций: в поступках библейских героев Анджеевский усматривает подтверждение мысли о первобытности и неизменности основных аксиом человеческого существования: любви и ревности, зависти и борьбы за власть, заблуждений и самообмана.
В повести «Уже почти ничего» Анджеевский вновь (после романов «Идет, скачет по горам» и «Месиво») обращается к теме судьбы художника, объединяя этот мотив с еще одной значимой для себя темой — самоощущением человека, находящегося на пороге старости, в полной мере сознающего близость и неотвратимость конца. Британишский пишет: «Если первая книга Анджеевского о старом художнике — «Идет, скачет по горам» — была трагической, иронической, сатирической, но жизнеутверждающей, то новая вещь о старости и смерти глубоко пессимистична»[18].
Смерти и разочарованию посвящен и последний законченный текст Анджеевского — повесть «Никто», в которой писатель обращается к мотивам «Одиссеи» Гомера. Из многочисленных мифов о древнегреческом герое, неоднократно использовавшихся в мировой литературе, Анджеевский выбирает последнее путешествие Одиссея, ставшее окончательным поражением и причиной смерти героя.
«Никто» — философская повесть-притча, сложная и необычная с точки зрения конструкции и авторского замысла, полная аллюзий и многозначных подтекстов. «Я называюсь НИКТО» — говорит о себе Одиссей, а «НИКТО — стало быть, всякий человек»[19].
Последние повести Анджеевского демонстрируют окончательный отход писателя от традиционной эпической манеры повествования. Анджеевский оформляет свои поздние тексты скорее как дневниковые заметки или черновики, допуская нелинейность и прерывистость действия, вкрапления авторского текста, смешение контрастирующих повествовательных техник и стилей. Все эти характерные черты можно найти и в поэтике романа «Месиво».
Глава 6
Роман «Месиво»: новое содержание в новой форме
«Месиво» — роман сложной структуры. Текст книги состоит из 3-х сюжетных частей (собственно текст романа), текста авторского дневника, который сопровождает все романное повествование, регулярно прерывая его, и вставной главы, озаглавленной «Интермедия или Польские биографии» — перечня биографий всех упомянутых в книге персонажей.
По мысли писателя, такая неустойчивая, намерено не законченная структура текста отражает хаос действительности — беспорядочной, неустроенной, лишенной ценностных ориентиров. Месиво есть и форма романа и предмет книги, так что месиво (хаос) повествования как бы опережает восприятие мира как месива.
Композиционным центром книги является описание торжества по случаю бракосочетания актера Конрада Келлера и дочери партийного босса Моники Панек. Описанию современной польской свадьбы посвящена вся первая часть книги, хотя с первых страниц романа известно, что свадьба не состоится. В результате ¼ текста книги написана вопреки законам эпики в несовершенном будущем времени и сослагательном наклонении.
«Месиво» претендует на то, чтобы стать эффектным point final в истории существования польского мифа свадьбы (начала которого восходят к драме С. Выспяньского «Свадьба» и сцене «Бала у Сенатора» из III части драмы Адама Мицкевича «Дзяды»).
В романе Анджеевского не только логика, не только смысл или дальнейшие перспективы, но сама реальность свадебного союза оказывается под вопросом. Современная польская свадьба, по Анджеевскому, — это свадьба, которая не состоится.
Мистификацией оказывается не только брак Келлера и Панек, но и союз между людьми искусства и властью, и весь сюжет романа, опровергающий и отвергающий себя самого по мере развития действия, т.к. сама действительность современной Анджеевскому Польши настойчиво сопротивляется систематизации и упорядоченному восприятию.
Ответственность за существующий хаос Анджеевский решительно возлагает на власть. На страницах авторского Дневника писатель предпринимает попытку переосмысления истории своей страны в контексте всемирной истории тоталитаризма — со времен египетских фараонов до эпохи СССР. Исходя из истории собственного народа, Анджеевский открывает универсальные законы, касающиеся всех государств, в которых когда-либо имела место тоталитарная власть.
Анджеевский полемизирует с идеей о том, что власть является институтом, структурой или силой, которой наделены отдельные люди. По Анджеевскому власть может служить в равной степени, как добру, так и злу, выступать как репрессивная и как эмансипирующая сила. Это лишает трактовку феномена власти в «Месиве» однозначно негативного смысла,он скорее приобретает характер фатальной неизбежности. Люди у власти, вынужденные ежедневно и еженощно оберегать, поддерживать и укреплять свое привилегированное положение, по мысли писателя, как никто другой, лишены свободы, а, значит, достойны сожаления и сочувствия.
Подобной концепцией власти Анджеевский очерчивает метафизическое пространство, в котором живут и движутся его герои. Лишенные свободы выбора, «замурованные» в застенках собственных неврозов и страхов, они осознанно или бессознательно продолжают служить тому режиму, который порождает их страхи, двигаясь по жизни, как по замкнутому кругу. Наиболее ярко этот принцип реализуется в образе секретаря ЦК ПОРП Стефана Рашевского.
Широкий историко-литературный контекст для сюжетной прозы в романе формируют два необычных, во многом инновационных раздела, включенные Анджеевским в книгу уже на финальном этапе эволюции авторского замысла: Дневник и «Интермедия или Польские биографии».
В «Интермедии» писатель предпринял попытку воссоздать сводную биографию своего народа. Биографии представляют процесс становления поляков как нации, начиная со времен Январского восстания вплоть до наших дней. Если фактическое действие книги разворачивается в течение 2-х апрельских дней 1969 года, то, благодаря биографиям, «Месиво» охватывает более полувека новейшей истории Польши.
В отличие от «Интермедии» авторский Дневник не выделен в отдельную главу, а «рассеян» отдельными вкраплениями по всему тексту романа. В некоторых местах границы между текстом Дневника и собственно текстом романа почти полностью размываются, порождая эффект текстовой нестабильности, расшатывающей безотчетное читательское убеждение в прочности окружающей действительности и ее законов. В «Месиве» происходит характерное для метапрозы [20] взаимопроникновение текста авторского комментария и текста романа, а, как следствие, реальности и литературной фикции. В результате едва ли не треть собственно текста романа оказывается на страницах Дневника, причем реальные персонажи соседствуют с вымышленными, а вымышленные находят очевидные соответствия в реальности (это позволяет рассматривать «Месиво» как «роман с ключом»).
Необычная форма романа вызвала к жизни вопрос о соотношении поэтики «Месива» с постмодернистской парадигмой художественности. С одной стороны, текст романа демонстрирует поразительную близость эстетическим параметрам постмодернизма: нарушение связанности (когерентности) повествования, повествовательная прерывистость (дискретность), эффект «информационного шума», интертекстуальность и т. п. С другой стороны, стремление автора к систематическому осмыслению и упорядочиванию реальности, его укорененность в национальных проблемах и мифах, а также своего рода «моральная ангажированность», свойственная всему творчеству Анджеевского, отвергают, казалось бы, саму мысль о постмодернисткой природе романа.
По нашему мнению, в отношении романа Анджеевского продуктивной является концепция российского литературоведа Марка Липовецкого. В своей монографии о проблемах русского постмодернизма он делает вывод, что художественная структура ряда текстов, созданных в позднесоветскую эпоху, носит «вынужденно постмодернистский характер» [21]. В частности, говоря о прозе А. Битова, М. Липовецкий пишет: «Невозможность осуществления собственно модернистских путей преодоления духовной несвободы толкает автора «Пушкинского дома» на совмещение сугубо модернистских подходов с постмодернистскими исходами» [22].
То же можно сказать о последнем романе Ежи Анджеевского, который, подобно Битову, средствами метапрозы стремился восстановить разрушенную тоталитарной культурой связь с модернистской традицией, но пришел к осознанию неосуществимости такого рода попыток.
Так или иначе, новый опыт, как жизненный, так и художественный, синтезированный Анджеевским в его последнем романе, представляет собой сегодня неоценимый материал не только для исследования эволюции творческого мировоззрения писателя, но и в целом метаморфоз, каким подверглась романная проза ХХ века.
По мысли писателя, такая неустойчивая, намерено не законченная структура текста отражает хаос действительности — беспорядочной, неустроенной, лишенной ценностных ориентиров. Месиво есть и форма романа и предмет книги, так что месиво (хаос) повествования как бы опережает восприятие мира как месива.
Композиционным центром книги является описание торжества по случаю бракосочетания актера Конрада Келлера и дочери партийного босса Моники Панек. Описанию современной польской свадьбы посвящена вся первая часть книги, хотя с первых страниц романа известно, что свадьба не состоится. В результате ¼ текста книги написана вопреки законам эпики в несовершенном будущем времени и сослагательном наклонении.
«Месиво» претендует на то, чтобы стать эффектным point final в истории существования польского мифа свадьбы (начала которого восходят к драме С. Выспяньского «Свадьба» и сцене «Бала у Сенатора» из III части драмы Адама Мицкевича «Дзяды»).
В романе Анджеевского не только логика, не только смысл или дальнейшие перспективы, но сама реальность свадебного союза оказывается под вопросом. Современная польская свадьба, по Анджеевскому, — это свадьба, которая не состоится.
Мистификацией оказывается не только брак Келлера и Панек, но и союз между людьми искусства и властью, и весь сюжет романа, опровергающий и отвергающий себя самого по мере развития действия, т.к. сама действительность современной Анджеевскому Польши настойчиво сопротивляется систематизации и упорядоченному восприятию.
Ответственность за существующий хаос Анджеевский решительно возлагает на власть. На страницах авторского Дневника писатель предпринимает попытку переосмысления истории своей страны в контексте всемирной истории тоталитаризма — со времен египетских фараонов до эпохи СССР. Исходя из истории собственного народа, Анджеевский открывает универсальные законы, касающиеся всех государств, в которых когда-либо имела место тоталитарная власть.
Анджеевский полемизирует с идеей о том, что власть является институтом, структурой или силой, которой наделены отдельные люди. По Анджеевскому власть может служить в равной степени, как добру, так и злу, выступать как репрессивная и как эмансипирующая сила. Это лишает трактовку феномена власти в «Месиве» однозначно негативного смысла,он скорее приобретает характер фатальной неизбежности. Люди у власти, вынужденные ежедневно и еженощно оберегать, поддерживать и укреплять свое привилегированное положение, по мысли писателя, как никто другой, лишены свободы, а, значит, достойны сожаления и сочувствия.
Подобной концепцией власти Анджеевский очерчивает метафизическое пространство, в котором живут и движутся его герои. Лишенные свободы выбора, «замурованные» в застенках собственных неврозов и страхов, они осознанно или бессознательно продолжают служить тому режиму, который порождает их страхи, двигаясь по жизни, как по замкнутому кругу. Наиболее ярко этот принцип реализуется в образе секретаря ЦК ПОРП Стефана Рашевского.
Широкий историко-литературный контекст для сюжетной прозы в романе формируют два необычных, во многом инновационных раздела, включенные Анджеевским в книгу уже на финальном этапе эволюции авторского замысла: Дневник и «Интермедия или Польские биографии».
В «Интермедии» писатель предпринял попытку воссоздать сводную биографию своего народа. Биографии представляют процесс становления поляков как нации, начиная со времен Январского восстания вплоть до наших дней. Если фактическое действие книги разворачивается в течение 2-х апрельских дней 1969 года, то, благодаря биографиям, «Месиво» охватывает более полувека новейшей истории Польши.
В отличие от «Интермедии» авторский Дневник не выделен в отдельную главу, а «рассеян» отдельными вкраплениями по всему тексту романа. В некоторых местах границы между текстом Дневника и собственно текстом романа почти полностью размываются, порождая эффект текстовой нестабильности, расшатывающей безотчетное читательское убеждение в прочности окружающей действительности и ее законов. В «Месиве» происходит характерное для метапрозы [20] взаимопроникновение текста авторского комментария и текста романа, а, как следствие, реальности и литературной фикции. В результате едва ли не треть собственно текста романа оказывается на страницах Дневника, причем реальные персонажи соседствуют с вымышленными, а вымышленные находят очевидные соответствия в реальности (это позволяет рассматривать «Месиво» как «роман с ключом»).
Необычная форма романа вызвала к жизни вопрос о соотношении поэтики «Месива» с постмодернистской парадигмой художественности. С одной стороны, текст романа демонстрирует поразительную близость эстетическим параметрам постмодернизма: нарушение связанности (когерентности) повествования, повествовательная прерывистость (дискретность), эффект «информационного шума», интертекстуальность и т. п. С другой стороны, стремление автора к систематическому осмыслению и упорядочиванию реальности, его укорененность в национальных проблемах и мифах, а также своего рода «моральная ангажированность», свойственная всему творчеству Анджеевского, отвергают, казалось бы, саму мысль о постмодернисткой природе романа.
По нашему мнению, в отношении романа Анджеевского продуктивной является концепция российского литературоведа Марка Липовецкого. В своей монографии о проблемах русского постмодернизма он делает вывод, что художественная структура ряда текстов, созданных в позднесоветскую эпоху, носит «вынужденно постмодернистский характер» [21]. В частности, говоря о прозе А. Битова, М. Липовецкий пишет: «Невозможность осуществления собственно модернистских путей преодоления духовной несвободы толкает автора «Пушкинского дома» на совмещение сугубо модернистских подходов с постмодернистскими исходами» [22].
То же можно сказать о последнем романе Ежи Анджеевского, который, подобно Битову, средствами метапрозы стремился восстановить разрушенную тоталитарной культурой связь с модернистской традицией, но пришел к осознанию неосуществимости такого рода попыток.
Так или иначе, новый опыт, как жизненный, так и художественный, синтезированный Анджеевским в его последнем романе, представляет собой сегодня неоценимый материал не только для исследования эволюции творческого мировоззрения писателя, но и в целом метаморфоз, каким подверглась романная проза ХХ века.
Заключение
В Заключении подводятся итоги проделанной работы, определяется место и значение творчества Анджеевского после 1956 года в литературном процессе Польши второй половины ХХ века.
Эволюция, которую претерпела проза Анджеевского от «Лада сердца» до «Пепла и алмаза» и главным образом от «Пепла и алмаза» до «Месива», при ближайшем рассмотрении куда больше похожа революцию. К новым темам и революционным формам писателя подталкивала сама реальность, а вернее сказать, то обостренное чувство реальности, которое всегда было свойственно Анджеевскому. Его проза, возможно, как никакая другая зависима от ситуации — места и времени, в которых она замысливалась и создавалась. Ситуация Польши 1950−1970-ых годов располагала к быстрому, часто тревожному, а еще чаще — рискованному поиску новых подходов и решений, способных соответствовать «вызовам» и призывам своей эпохи и предупреждать эпоху новую, грядущую.
В своих произведениях, созданных после 1956 года, писатель отчасти запечатлел, а отчасти предвосхитил большую часть жанровых и стилевых особенностей, которые будут характиризовать романную прозу вплоть до конца ХХ века. В числе этих особенностей можно выделить: жанровый синкретизм; развитие новых романных форм: «романа-параболы», микроромана, «романа с ключом», «романа в движении»; установку на смысловую игру с читателем и активизацию позиции читателя в тексте; нелинеарное развитие действия, симультанизм; смыкание стиля с сюжетом; мифологизацию реальности; усиление смыслообразующей роли сиснтаксиса и др.
Большая часть произведений, созданных Анджеевским после 1956 года, составляет вершину художественного творчества писателя. Романы «Мрак порывает землю», «Врата рая», «Идет, скачет по горам», «Месиво», повесть «Апелляция» демонстрируют не только высочайший уровень писательского мастерства, но и редкий дар художественного предвиденья, свойственный польскому писателю.
Круг мотивов и тем, которые Анджеевский затрагивает в своей поздней прозе необычайно широк. Писатель не ограничивается «расчетами с прошлым» или критическим осмыслением современности, а обращается к непреходящим «вечным» вопросам и темам, которые решает всегда оригинально, по-новому, с неожиданной авторской перспективы. Это обеспечивает его текстам, созданным после 1956 года, востребованность и популярность в современном мире, делает их не только «документами эпохи», но и источником для размышлений и вдохновения миллионов новых читателей.
Влияние поздней прозы Анджеевского на современную европейскую и мировую литературу недооценено, но это не означает, что оно несущественно. В своей работе мы указывали на малоизученное на сегодняшний день влияние романа Анджеевского «Врата рая» на обоснование концепции текста-ризомы в философии Делеза и Гваттари. Есть и более близкие и очевидные примеры. Роман знаменитой сегодня сербской писательницы Дубравки Угрешич «Форсирование романа-реки» — явное подражание «Месиву» как по содержанию, так и по форме.
Бесспорным остается и влияние поздней прозы Анджеевского на творчество молодого поколения польских писателей (А.Ульмана, Т. Трызны, П. Хюлле, М. Гретковской, Н. Герке и др.), даже если оно реализуется в форме притяжения-отталкивания, столь свойственной отношениям между поколениями «отцов и детей».
В тех случаях, когда речь не идет о прямом влиянии или заимствовании, мы можем наблюдать показательные аналогии и совпадения, подтверждающие исключительную близость мировоззрения Анджеевского 1960-ых — 1980-ых годов ключевым тенденциям и трендам современной мировой литературы, в которой проза польского писателя занимает сегодня заметное и заслуженное место.
Эволюция, которую претерпела проза Анджеевского от «Лада сердца» до «Пепла и алмаза» и главным образом от «Пепла и алмаза» до «Месива», при ближайшем рассмотрении куда больше похожа революцию. К новым темам и революционным формам писателя подталкивала сама реальность, а вернее сказать, то обостренное чувство реальности, которое всегда было свойственно Анджеевскому. Его проза, возможно, как никакая другая зависима от ситуации — места и времени, в которых она замысливалась и создавалась. Ситуация Польши 1950−1970-ых годов располагала к быстрому, часто тревожному, а еще чаще — рискованному поиску новых подходов и решений, способных соответствовать «вызовам» и призывам своей эпохи и предупреждать эпоху новую, грядущую.
В своих произведениях, созданных после 1956 года, писатель отчасти запечатлел, а отчасти предвосхитил большую часть жанровых и стилевых особенностей, которые будут характиризовать романную прозу вплоть до конца ХХ века. В числе этих особенностей можно выделить: жанровый синкретизм; развитие новых романных форм: «романа-параболы», микроромана, «романа с ключом», «романа в движении»; установку на смысловую игру с читателем и активизацию позиции читателя в тексте; нелинеарное развитие действия, симультанизм; смыкание стиля с сюжетом; мифологизацию реальности; усиление смыслообразующей роли сиснтаксиса и др.
Большая часть произведений, созданных Анджеевским после 1956 года, составляет вершину художественного творчества писателя. Романы «Мрак порывает землю», «Врата рая», «Идет, скачет по горам», «Месиво», повесть «Апелляция» демонстрируют не только высочайший уровень писательского мастерства, но и редкий дар художественного предвиденья, свойственный польскому писателю.
Круг мотивов и тем, которые Анджеевский затрагивает в своей поздней прозе необычайно широк. Писатель не ограничивается «расчетами с прошлым» или критическим осмыслением современности, а обращается к непреходящим «вечным» вопросам и темам, которые решает всегда оригинально, по-новому, с неожиданной авторской перспективы. Это обеспечивает его текстам, созданным после 1956 года, востребованность и популярность в современном мире, делает их не только «документами эпохи», но и источником для размышлений и вдохновения миллионов новых читателей.
Влияние поздней прозы Анджеевского на современную европейскую и мировую литературу недооценено, но это не означает, что оно несущественно. В своей работе мы указывали на малоизученное на сегодняшний день влияние романа Анджеевского «Врата рая» на обоснование концепции текста-ризомы в философии Делеза и Гваттари. Есть и более близкие и очевидные примеры. Роман знаменитой сегодня сербской писательницы Дубравки Угрешич «Форсирование романа-реки» — явное подражание «Месиву» как по содержанию, так и по форме.
Бесспорным остается и влияние поздней прозы Анджеевского на творчество молодого поколения польских писателей (А.Ульмана, Т. Трызны, П. Хюлле, М. Гретковской, Н. Герке и др.), даже если оно реализуется в форме притяжения-отталкивания, столь свойственной отношениям между поколениями «отцов и детей».
В тех случаях, когда речь не идет о прямом влиянии или заимствовании, мы можем наблюдать показательные аналогии и совпадения, подтверждающие исключительную близость мировоззрения Анджеевского 1960-ых — 1980-ых годов ключевым тенденциям и трендам современной мировой литературы, в которой проза польского писателя занимает сегодня заметное и заслуженное место.
Примечания
[1] Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах, М., 1990, Т.1. С. 26.
[2] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М., 2000.
[3] Байздренко А. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола // Вестник Московского университета. Серия «Филология». 1997, № 1.
[4] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы «второго круга обращения» // Политика и поэтика (сб. статей). М., 2000.
[5] Цыбенко Е. З. Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная литература» // Славяноведение, 1995, № 5.
[6] Хорев В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после II второй мировой войны (коллективн. работа под ред. С. А. Шерлаимовой, В. А. Хорева (ответств. ред.), Г. Я.Ильиной). Т.1. М., 1995. С. 137.
[7] Пиотровская А. Г. Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60−70-ых годов. М., 1979. С. 46.
[8] Термин «сильва» был введен в польское литературоведение критиком Рышардом Нычем: Nycz R. Sylwy współczesne. Warszawa, 1984.
[9] Адельгейм И. Поэтика польской прозы 1990-ых годов: гипноз постмодернизма и реальные проблемы «выживания литературы» // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-ые годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002. С. 7.
[10] Там же.
[11] Kijowski A. Traktat o zbawieniu // Kijowski A. Arcydzieło nieznane. Kraków, 1964. S.89.
[12] Synoradzka A. Andrzejewski, Kraków, 1997. S.98.
[13] Бахтин М. М., Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 266.
[14] Bereza H. Rapsod Andrzejewskiego // Twórczość. 1961, № 1. Żabicki Z. Rapsod o miłości i dziejach // Żabicki Z. Proza… Proza… Warszawa, 1966.
[15] Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[16] В доступной нам критической литературе мы ни разу не встречали попыток проанализировать «Врата рая» в рамках концепции ризомы, так же, как не встречали и самого упоминания о том, что парабола Анджеевского была хорошо знакома авторам «Анти-Эдипа»: обосновывая свою знаменитую теорию, французские философы неоднократно упоминают микророман Анджеевского. (Делез и Гваттари опираются на французское издание «Врат рая»: Gallimar, 1959). Это дает основания утверждать, что во «Вратах рая» Анджеевскому удалось создать модель письма, которая стала материалом для формирования одного из наиболее ярких и продуктивных концептов литературы нового времени.
[17] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[18] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[19] Анджеевский Е. Никто // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 442 (пер. Лысенко Е.).
[20] Эксперименты в области метапрозы имеют глубокие корни в польской литературной традиции. Одним из первых метапрозаических романов не только в польской, но, вероятно, и во всей европейской литературе является «Химера» («Pałuba», 1983) Кароля Ижиковского, который почти на четверть опережает знаменитых «Фальшивомонетчиков» Андре Жида. Исследованию феномена метапрозы в романе Ижиковского посвящена статья автора диссертации: Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение, М., 2005, № 1.
[21] Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997. С. 124.
[22] Там же.
[1] Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах, М., 1990, Т.1. С. 26.
[2] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М., 2000.
[3] Байздренко А. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола // Вестник Московского университета. Серия «Филология». 1997, № 1.
[4] Хорев В. А. Достижения и потери польской прозы «второго круга обращения» // Политика и поэтика (сб. статей). М., 2000.
[5] Цыбенко Е. З. Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная литература» // Славяноведение, 1995, № 5.
[6] Хорев В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после II второй мировой войны (коллективн. работа под ред. С. А. Шерлаимовой, В. А. Хорева (ответств. ред.), Г. Я.Ильиной). Т.1. М., 1995. С. 137.
[7] Пиотровская А. Г. Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60−70-ых годов. М., 1979. С. 46.
[8] Термин «сильва» был введен в польское литературоведение критиком Рышардом Нычем: Nycz R. Sylwy współczesne. Warszawa, 1984.
[9] Адельгейм И. Поэтика польской прозы 1990-ых годов: гипноз постмодернизма и реальные проблемы «выживания литературы» // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-ые годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. М., 2002. С. 7.
[10] Там же.
[11] Kijowski A. Traktat o zbawieniu // Kijowski A. Arcydzieło nieznane. Kraków, 1964. S.89.
[12] Synoradzka A. Andrzejewski, Kraków, 1997. S.98.
[13] Бахтин М. М., Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 266.
[14] Bereza H. Rapsod Andrzejewskiego // Twórczość. 1961, № 1. Żabicki Z. Rapsod o miłości i dziejach // Żabicki Z. Proza… Proza… Warszawa, 1966.
[15] Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[16] В доступной нам критической литературе мы ни разу не встречали попыток проанализировать «Врата рая» в рамках концепции ризомы, так же, как не встречали и самого упоминания о том, что парабола Анджеевского была хорошо знакома авторам «Анти-Эдипа»: обосновывая свою знаменитую теорию, французские философы неоднократно упоминают микророман Анджеевского. (Делез и Гваттари опираются на французское издание «Врат рая»: Gallimar, 1959). Это дает основания утверждать, что во «Вратах рая» Анджеевскому удалось создать модель письма, которая стала материалом для формирования одного из наиболее ярких и продуктивных концептов литературы нового времени.
[17] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[18] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[19] Анджеевский Е. Никто // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 442 (пер. Лысенко Е.).
[20] Эксперименты в области метапрозы имеют глубокие корни в польской литературной традиции. Одним из первых метапрозаических романов не только в польской, но, вероятно, и во всей европейской литературе является «Химера» («Pałuba», 1983) Кароля Ижиковского, который почти на четверть опережает знаменитых «Фальшивомонетчиков» Андре Жида. Исследованию феномена метапрозы в романе Ижиковского посвящена статья автора диссертации: Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение, М., 2005, № 1.
[21] Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997. С. 124.
[22] Там же.
по теме диссрертации опубликованы работы:
1
Савельева А.А.
Постмодернизм в славянских литературах и роман Ежи Анджеевского «Месиво» // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы. Преподавание, изучение.
(Сборник тезисов выступлений).
М., Изд-во МГУ, 2002. С.78-84.
(Сборник тезисов выступлений).
М., Изд-во МГУ, 2002. С.78-84.
2
Савельева А.а.
О поэтике романа Ежи Анджеевского «Месиво» (мотив свадьбы) // Вестник Московского университета. Серия Филология.
М., 2003, №1. С.124-134.
М., 2003, №1. С.124-134.
3
Савельева А.А.
§ Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение.
М., 2005, №1. С.60-66.
М., 2005, №1. С.60-66.
4
Савельева А.А.
Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского «Химера» // Славяноведение.
М., 2005, №1. С.60-66.
М., 2005, №1. С.60-66.