Ежи Анджеевский (1909−1983) родился и умер в Варшаве. Здесь прошла большая часть его жизни, здесь в 1927 году он окончил гимназию им. Яна Замойского, а позднее учился в Варшавском Университете на отделении полонистики (Анджеевский оставил Университет в 1931 году, так и не получив диплом), здесь состоялся его литературный дебют.
Анджеевский дебютировал как прозаик в 1936 году сборником рассказов «Неотвратимые пути» («Drogi nieuniknione»), в который вошли три короткие новеллы: «Конец» («Koniec»), «Побег» («Ucieczka») и «Ложь» («Kłamstwa»).
Героем первых рассказов Анджеевского был «маленький человек» (железнодорожный чиновник, безнадежный туберкулезник, безработный интеллигент), потерянный в огромном и непонятном мире, сотрясаемом глобальным экономическим кризисом начала 1930-ых годов.
В основе сюжета этих рассказов, как правило, лежит факт, почерпнутый из жизни рабочих окраин, (главным образом варшавской Праги), вокруг которого писатель выстраивает незамысловатый конфликт, необходимый для постановки волновавших его этических и философских вопросов: одиночества, смерти, ответственности, страха. Как отмечает русский литературовед С. Петров, «переживания героев Анджеевского сосредоточены только вокруг одного — смысла человеческой жизни, они не пересекают грань нравственно-философских понятий» [1].
Поднимая проблемы быта варшавских низов, обреченных на жалкое, беспросветное существование, (которое писатель живописует в традициях французского натурализма), Анджеевский далек от анализа общественно-политических явлений и исторических процессов его породивших. Экономическое банкротство купца Гербальда из рассказа «Конец» или неудачливая судьба потерявшего жилье и работу Мойка из новеллы «Ложь» иллюстрируют один и тот же близкий Анджеевскому тезис о неисповедимости (и «неотвратимости») путей Господних.
Вырванные из привычного ритма жизни герои ранних рассказов Анджеевского «ищут смысл, порядок и спасение» [2], а находят отчаяние и экзистенциальное одиночество, хотя надежда на избавление, по мысли писателя, рядом — в христианском служении добру, истине, красоте, в обретении лада с самим собой.
Воспитанный в католической семье, но до поры до времени не проявлявший особого религиозного рвения, в начале творческого пути Анджеевский попадает под влияние кружка, объединившегося вокруг прелата Владислава Корниловича и журнала «Verbum». Как указывает А. Сынорадзкая-Демадр, «это было сообщество людей ищущих, увлеченных идеей обновления католицизма через неотомизм и учение французского философа Жака Маритэна» [3].
Вдохновленный новыми идеями Анджеевский начинает зачитываться французской католической литературой — в первую очередь книгами Франсуа Мориака и Жоржа Бернано, в которых находит близкие для себя «глубокий трагизм» и «внутреннее беспокойство» [4].
Из «Клубка змей» Мориака и «Дневника сельского священника» Бернано во многом вырос первый большой роман Анджеевского — «Лад сердца» («Ład serca»), опубликованный в 1937−38-ом годах в еженедельнике «Просто с мосту» («Prosto z mostu»).
Действие романа разворачивается в богом забытой полесской деревушке Седельники, в приходе ксендза Сехеня, где в течение одной летней ночи совершается череда зловещих несчастий и таинственных преступлений. Как отмечает критик А. Кийовский, «Полесье становится для Анджеевского землей, оставленной Богом, пейзажем дантовского ада. <…> Зло, нарастающее по ходу той ночи, <…> приобретает сверхчеловеческие размеры, и сверхчеловеческим должно быть добро, которое сможет ему противостоять» [5].
Главный герой романа, ксендз Сехень, изо всех сил стремится стать опорой для прихожан, в душах и судьбах которых вершится их собственный «страшный суд», но сердце священника, раздираемого сомнениями и противоречиями, также лишено очищающего «лада». Призраки прошлого в образе павшей, совращенной им, измученной болезнью женщины врываются в его жизнь, напоминая о давнем грехе и неизбежности расплаты.
Как и в ранних рассказах, в «Ладе сердца» Анджеевский отказывается от напряженного сюжета, (действия как такового в романе практически нет, интрига раскрывается через многочисленные ретро- и интроспекции, причем большинство поступков заведомо предрешены событиями прошлого), в пользу драматизма и напряженности внутреннего состояния героев.
Писатель исповедует своеобразный, отличный от распространенной «фрейдистской» модели психологизм, который А. Кийовский метко определил как «морализаторский» [6]. Психология персонажей является для Анджеевского главным образом почвой для постановки философских проблем и разрешения моральных конфликтов, полем для показательного столкновения сил Добра и Зла.
Символом темных сил в романе становится образ ночи, тьмы, который будет не раз возвращаться в других, более поздних произведениях Анджеевского. Как пишет в своей монографии Я. Детка, «сменялись темы — тьма оставалась неизменной, и это независимо от повествовательной техники и жанровой формы. Тьма как характеристика пространства, и ночь как время действия» [7].
В «Ладе сердца» ночь является олицетворением как метафизических сил зла, непредсказуемой и неотвратимой воли рока, так и темных страстей, разбуженных этими силами в человеке. В отличие от евангельских заветов, концепция мира в произведении Анджеевского глубоко пессимистична: преступления, совершенные под покровом ночи, не рассеиваются с приходом дня. Книга завершается описанием серого рассвета, в котором с трудом угадывается обещание далекого солнечного утра.
Роман «Лад сердца» принес Анджеевскому подлинное признание и популярность: в 1939 году писатель получил премию еженедельника «Вядомости литерацке» («Wiadomości literackie»), и Награду Молодых, присуждаемую Польской Академией Литературы авторам, не достигшим 30 лет (другим кандидатом на эту премию выдвигался Теодор Парницкий с романом «Аэций или Последний римлянин»).
Критика единодушно признала Анджеевского «католическим писателем», а сам роман — «первым подлинным католическим романом». Ежи Завейский вспоминал позже, что католицизм проникал в Польшу «вместе с книгами Мориака и Бернано, театром Клоделя и романом Анджеевского» [8].
Лишь немногие обратили внимание на то, что мировоззрение автора «Лада сердца» и его трактовка христианских доктрин далеки от ортодоксального католицизма [9]. Сам Анджеевский, годы спустя, признавался, что не смог до конца принять католическую догматику, а его недолгое пристрастие к религии и Костелу объяснялось внутренней необходимостью постоянно подчиняться какому бы то ни было влиятельному авторитету [10].
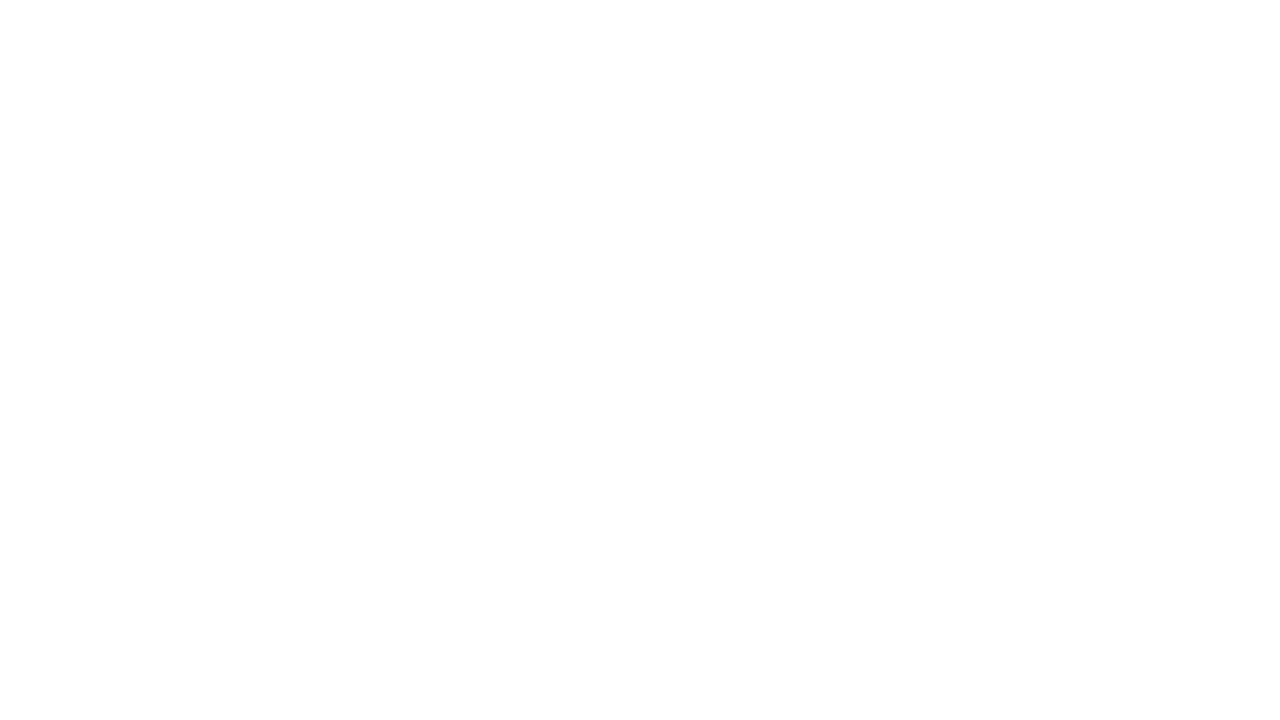
Т.Поткай в статье на 20-летие со дня смерти писателя пишет: «Из оккупационных воспоминаний об Анджеевском самые важные касаются его мужества» [11]. Сразу после возвращения в Варшаву Анджеевский стал активным участником конспиративной культурной жизни столицы: посещал тайные литературные кружки и лекции подпольного университета, вместе с Чеславом Милошем издавал нелегальный журнал и вступил в тайную организацию «Вольность», а с 1941-ого года занимался распределением финансовой помощи, выделяемой польским литераторам конспиративными властями.
Все это время Анджеевский много и увлеченно пишет. За годы войны и оккупации писатель создает ряд повестей и рассказов на военную тематику: «Перед судом» («Przed sądem», 1941), «Интермеццо» («Intermezzo», 1942), «Перекличка» («Apel», 1942), «Путешествие» («Ucieczka», 1942−58), «Страстная неделя» («Wielki tydzień», 1943), «Кукушка» («Kukułka», 1944) и др.
Впоследствии эти произведения составили два сборника: «Ночь» («Noc», 1945) и «Интермеццо и другие рассказы» («Intermezzo i inne opowiadania», 1983).
По мысли А. Кийовского, «военное творчество Анджеевского не отличается от довоенного по стилю, мировоззрению, атмосфере. Отличается масштабом <…> Не изменяются герои, изменяются декорации» [12]. Опыт военных лет добавил новые реалии и сюжетные ходы в художественный арсенал писателя, однако основной предмет его интересов остался неизменным с момента дебюта. Анджеевского по-прежнему волнуют моральные и экзистенциальные конфликты, обостренные отчаянными, беспощадными условиями войны: одиночество перед лицом смерти, ответственность за себя и близких, необходимость выбора в пограничной ситуации и поиск путей спасения. Как отмечает А. Кийовский, в большинстве военных рассказов Анджеевского история является лишь «преамбулой к борьбе за отдельно взятую душу» [13], а «внешний мир подчиняется морализаторской тенденции» [14].
Военные рассказы Анджеевского почти полностью лишены героического пафоса: герои его военных произведений отнюдь не герои на поле боя. Как правило, это все те же «маленькие люди», случайно попавшие в водоворот великой войны.
В рассказе «Перед судом», написанном в 1941 году, главный герой, приговоренный фашистами к смерти за сокрытие оружия, из страха одному идти на казнь, выдает палачам своего товарища, ни в чем не повинного человека. И тот не только прощает предателя, но в решающий момент оказывает ему моральную поддержку, подбадривает его [15]. Как отмечает С. Петров, «о герое рассказа „Перед судом“ нельзя сказать ни хорошее, ни плохое. Хотя он и предал товарища, критерий, с которым Анджеевский подходит к его образу, не позволяет осудить предательство» [16].
Далек Анджеевский от вынесения однозначных оценок и в других своих военных рассказах: «Сентябрьская ода» (первоначальное название «Братство»), «Интермеццо», «Перекличка». Даже порвав с католицизмом, этические установки которого, по ощущению писателя, не выдержали проверки войной [17], Анджеевский в своем творчестве оставался верен проблемам нравственного порядка, продолжая исследовать глубины человеческой психологии и скрытые мотивы поступков героев.
В рассказе «Перекличка» (1942) четыре человека расплачиваются жизнью за бегство из концентрационного лагеря одного узника, (позже оказывается, что тот не убегал, а просто умер, не выдержав мучений и издевательств надзирателей). Но перед лицом жестокой расправы за возможное пособничество беглецу, каждый из выведенных на поверку заключенных открывает в себе тот предел низости и малодушия, на который способен. Кто-то, подобно герою рассказа Скарбовскому, соглашается выполнить указание эсесовца избивать своих сокармеников, кто-то отказывается от приказа ценой собственной жизни. Испытание совестью, как и в раннем творчестве Анджеевского, в «Перекличке» оказывается самым сложным для героев, перевешивая тяготы лагерной жизни и лишения военного времени.
Лейтмотивом военной прозы Анджеевского становится вопрос, который задает себе один из героев рассказа «Сентябрьская ода», оказавшийся «убийцей поневоле»: «Как же так — я не хочу зла, но все равно его совершаю?».
Большую часть войны Анджеевский прожил в Варшаве в доме на Навинарской улице, неподалеку от площади Красиньских. Из окна его комнаты открывался вид на знаменитую карусель, описанную Милошем в стихотворении «Campo di Fiori», а парой сотен метров дальше возвышались стены варшавского гетто. В 1943 году, когда последние выстрелы восстания в гетто отгремели, Анджеевский жил уже на Белянах, но близость, (а в чем-то причастность) к трагическим событиям восстания, ошеломила писателя[18]. Вероятно, этим объясняется почти публицистическая точность, с какой Анджеевский восстанавливает отдельные моменты событий в гетто в рассказе «Страстная неделя» (1943).
«Страстную неделю» без преувеличения можно назвать переломным произведением в военном творчестве Анджеевского, синтезировавшим черты, которые будут присущи прозе писателя и в более поздний период — вплоть до 1956 года. В этом рассказе Анджеевский впервые отказывается от свойственной большинству его ранних текстов замкнутой композиции, построенной вокруг одного ключевого события, и хронологической герметичности повествования. Характер главного героя рассказа — Малецкого, укрывающего от преследований еврейку Ирену, но не способного преодолеть неприязнь к ней, писатель представляет динамически — в развитии, в разных жизненных обстоятельствах и ситуациях.
Изменения коснулись и наиболее важных черт поэтики произведения: структуры конфликта и психологизма. В «Страстной неделе» конфликт рассказа носит межличностный характер, развивается не внутри наполненной сомнениями и противоречиями человеческой души, как это было в «Ладе сердца» и ранних военных рассказах, а между людьми или даже группами людей с разными характерами, взглядами и убеждениями. В связи с этим изменяется и подход к психологическим характеристикам персонажей: основным средством психологизма в рассказе становятся поступки героев, а не пространные описания их внутреннего состояния и душевных переживаний.
По воспоминаниям современников, все эти изменения стали особенно заметны во второй, исправленной версии рассказа, опубликованной в августе-сентябре 1945 года [19]. Рышард Матушевский, знакомый с первоначальной редакцией текста, вспоминает, что Анджеевский существенно переработал сюжет «Страстной недели» под влиянием критических замечаний Яна Котта, ставшего сразу после войны ведущим публицистом коммунистически-партийного еженедельника «Кузница» [20].
С.Петров, опирающийся в своей статье на рукописи самого Анджеевского, также указывает, что рассказ был сначала задуман как «психологическая новелла» в русле ранних военных произведений, но в последствии авторская концепция изменилась: «Изменения в рукописи идут в направлении расширения внешнего фона. Автор вводит в рассказ образ Юлека, брата Малецкого, деятеля подполья, активного участника борьбы. Этот образ придает рассказу иной колорит» [21].
Ревизия текста «Страстной недели», предпринятая под влиянием Яна Котта (в те годы — критика-марксиста), лишний раз подтверждает решительный перелом, совершившийся к концу войны в мировоззрении Анджеевского. Уже на рубеже 1944−45-ого годов писателя, как и многих его соратников по конспиративной борьбе, постигает чувство опустошенности и разочарования в деятельности польского подпольного государства и «лондонского правительства». Романтическая мифомания конспирации и бессмысленные выяснения отношений между предводителями польского Движения Сопротивления становятся объектом острой сатиры в драме «Праздник Винкельрида» («Święto Winkelrieda», 1944), написанной Анджеевским в соавторстве с Ежи Завейским, и в рассказах последних военных лет: «Жена по паспорту» («Paszportowa żona»), «Пробуждение льва» («Przebudzenie lwa»), «Кукушка» («Kukułka») и др.
Для писателя это были первые опыты использования в прозе элементов политической пародии и сатиры, (многие сюжеты строились на реальных, узнаваемых ситуациях), продиктованные желанием не только высмеять взаимные раздоры и закулисные махинации эмигрантского подполья, но и глубже проникнуть в суть человеческих характеров, по-новому, через призму иронии и шутки, взглянуть на окружающую действительность.
Опыт оказался удачным. В дальнейшем Анджеевский не раз будет использовать эти приемы при создании других своих произведений: в рассказах конца 1950-ых годов, повести «Апеляция», романе «Идет, скачет по горам» и др.
Новый 1945-ый год 36-летний Анджеевский вместе с семьей (женой Марией, сыном Мартином и дочерью Агнешкой) встречал в Закопанем, куда бежал из осажденной Варшавы в первые дни варшавского восстания. Вскоре семья перебралась в Краков, где Анджеевский принимал участие в создании структуры Профессионального Союза Польских Писателей, избранный сначала вице председателем, а в октябре 1945 года – председателем краковского отделения [22].
К литературной деятельности писатель вернулся после первого визита в освобожденную Варшаву в 1945 году. Вместе с Чеславом Милошем, с которым Анджеевского к тому времени связывала тесная дружба, был написан сценарий фильма «Варшавский Робинзон» (“Robinzon Warszawski”). В основу сюжета легла история польского музыканта и композитора Владислава Шпильмана, чудом спасшегося от смерти в Варшавском гетто и вынужденного в полном одиночестве укрываться в руинах разгромленной столицы до прихода советских войск. Кинокартина по сценарию Анджеевского и Милоша имела шанс стать первым польским послевоенным фильмом, но цензура отозвала разрешение на съемки [23]. (В 2001 году к истории Шпильмана обратился знаменитый польский кинорежисеер Роман Поланский, сняв на ее основе один из лучших своих фильмов — «Пианист».)
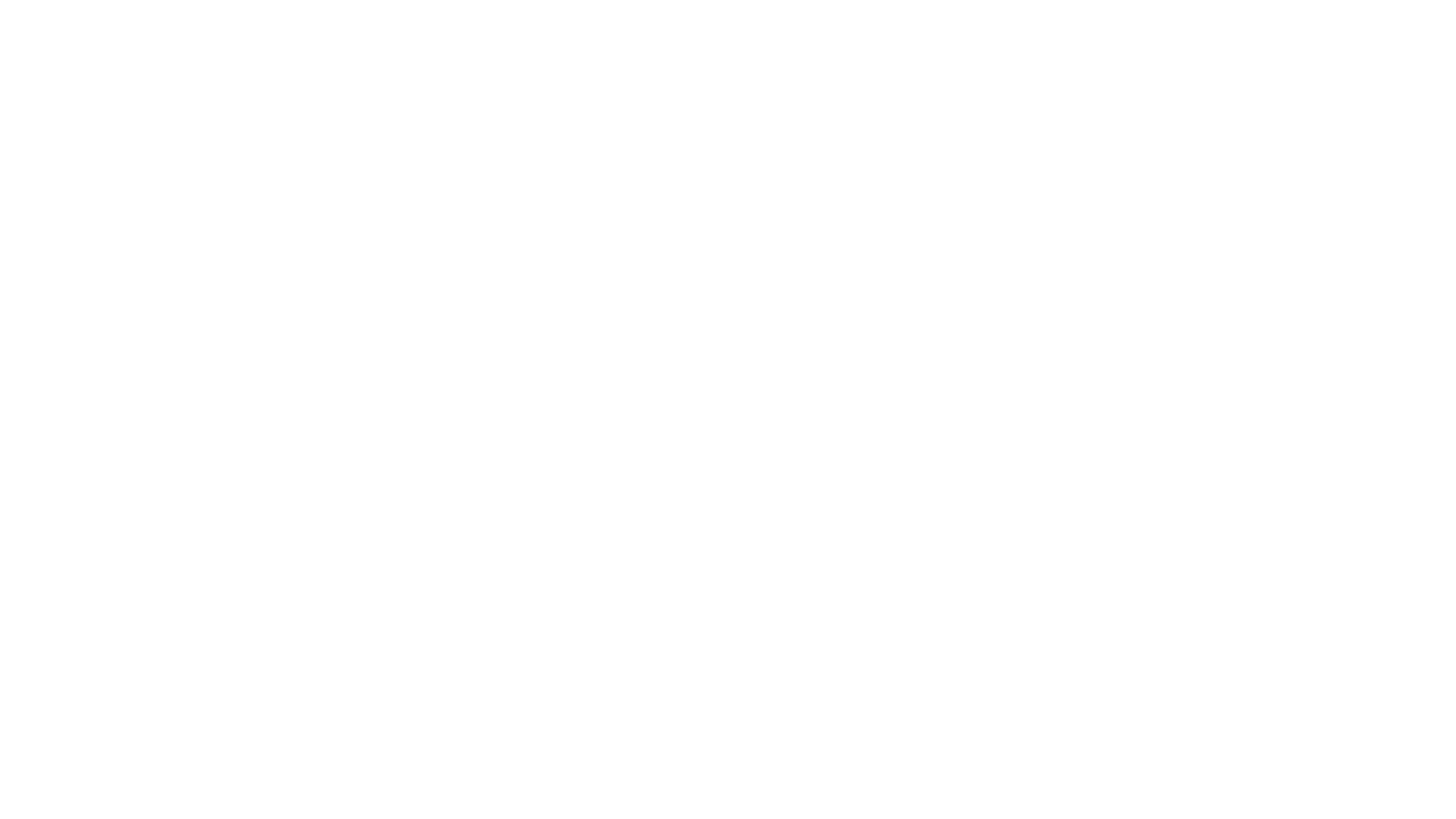
(реж. Р. Полански, 2003)
фото: afisha.ru
В декабре 1946 года Анджеевский приступил к работе над новой большой книгой [24]. Первым наброском будущего романа, получившего впоследствии название «Пепел и алмаз», (“Popiół i diament”), стал рассказ «Сразу после войны» («Zaraz po wojnie»), героем которого был преуспевающий адвокат Антоний Коссецкий.
По замыслу писателя, Коссецкий, попавший во время оккупации в концлагерь и не выдержавший чудовищных условий тюремного существования, переходит на службу к эсэсовцам и превращается в жестокого надзирателя. После войны герой тщательно скрывает свое предательство и пытается вернуться к нормальной жизни, вновь обрести профессию и семью, но военное прошлое неизменно преследует его. В этой истории Анджеевского волновали мотивы, побудившие обыкновенного, порядочного человека превратиться в палача, и критерии, согласно которым общество должно оценивать его поступок в мирное время.
Работа над книгой шла полным ходом, (сюжет романа одобрила редакция журнала «Одродзене», заявив о своем согласии на публикацию), когда у Анджеевского появился новый замысел, отодвинувший на второй план историю об адвокате Коссецком. В январе 1946 года в Познани был убит известный общественный деятель Ян Стаховяк, один из организаторов местного союза молодежи. В ходе расследования выяснилось, что убийство было организовано учениками познаньской школы, выполнявшими распоряжение провокаторов из-за рубежа. Дело получило широкую общественную огласку, к дискуссии подключились многие известные литераторы.
Анджеевский разглядел в познаньской истории драму всей послевоенной польской молодежи, разрывавшейся между императивом борьбы с навязанным режимом и желанием как можно скорее сложить оружие ради возвращения к нормальной жизни.
Стремление раскрыть причины этой трагедии привело писателя к мысли ввести в задуманный роман новых героев. Как указывает С.Петров, «первоначально в романе появляется группа гимназистов – членов подпольной организации. Однако в процессе работы эта линия отходит на второй план. Один из образов гимназистов перерастает в трагическую фигуру молодого человека <…> Так возникает образ Мачека Хелмицкого» [25].
Действие романа разворачивается в первые послевоенные дни, 6-9 мая 1945 года в польском городке Островец. Мачей Хелмицкий – молодой солдат Армии Крайовой, которому тайное руководство антикоммунистической оппозиции поручает застрелить секретаря районного отдела ППР Стефана Щуку. Верный своему долгу и своеобразным – близким конрадовским [26] – представлениям о чести, он выполняет приказ, хотя в душе понимает бессмысленность и безнадежность этого покушения на новый строй. Убийство Щуки, тем более драматичное, что Хелмицкий не испытывает к нему ни личной, ни «классовой» вражды, влечет за собой его собственную смерть – Мачек погибает, пытаясь скрыться от уличного патруля, затеявшего рядовую проверку документов.
В 1947 году книга была закончена, а годом позже опубликована под названием «Пепел и алмаз».
Роман принес Анджеевскому неслыханную популярность [27] и одновременно вызвал массу противоречивых оценок. Писателю вменяли в вину «заигрывание» с вражеской идеологией, сочувствие «террористу» Хелмицкому, небрежность и схематизм в изображении партийных работников (образы Щуки и коммуниста Подгурского по тщательности проработки и силе воздействия заметно уступали образу главного героя). Серьезные нарекания вызывала и форма романа, близкая поэтике психологической прозы межвоенного десятилетия, категорически осуждаемой новоиспеченными марксистами. Ян Котт, в частности, усмотрел в «Пепле и алмазе» спор «великого реализма», «малого реализма» и «конрадовских инспираций» [28].
Вместе с тем часть читателей, и в их числе коллеги и близкие знакомые Анджеевского – Ч.Милош, С.Киселевский, М.Домбровская, обвинили писателя в искажении исторической правды, замалчивании фактов, политическом конформизме [29]. Дополнительным поводом для упреков оппозиционной критики стала случайность, по которой издание книги совпало с началом парламентских выборов в январе 1948 года: появление нового произведения известного писателя, лояльно настроенного к коммунистам, по мнению оппозиции, могло сыграть на руку ППР.
Анджеевский болезненно воспринял критику в свой адрес, хотя позже утверждал, что никогда не считал «Пепел и алмаз» большой творческой удачей [30]. Уверенность вернулась к писателю после присуждения ему премии журнала «Одродзене» – летом 1948 года роман был признан лучшей книгой последних 12 месяцев, а его автор получил награду в размере 250 тысяч злотых. Как указывает А.Сынорадзкая, несмотря на присутствие в жюри конкурса выдающихся литераторов (Налковской, Брезы, Ивашкевича, Выки и др.), «секретом полишинеля был тот факт, что все решения подсказывались или навязывались партией» [31].
Официальные власти одобрили книгу, даже несмотря на ее «идеологическую невыдержанность». Впрочем, уже вскоре все вызывавшие сомнения и нарекания сюжетные и композиционные нюансы Анджеевский полностью устранил, подготовив новую версию текста романа, которая была издана в 1954 году [32].
Вскоре после получения награды «Одродзеня» Анджеевский с семьей перебрался из Кракова в Щецин, осенью 1948 года стал членом Правления Общества польско-советской дружбы, а в 1950 году вступил в ряды Польской Объединенной Рабочей Партии. По словам А.Сынорадзкой, «с момента переезда в Щецин Анджеевский поступал так, как будто в нем происходил ускоренный процесс акцептации марксистской доктрины» [33]. Огромное влияние на мировоззрение писателя в этот период оказали соседи: В.Виршпа, В.Ворошильский, Т.Ружевич, а также частые гости в Щецине: А.Браун, Т.Боровский, Р.Братный – все в то время были сторонниками коммунистического строя.
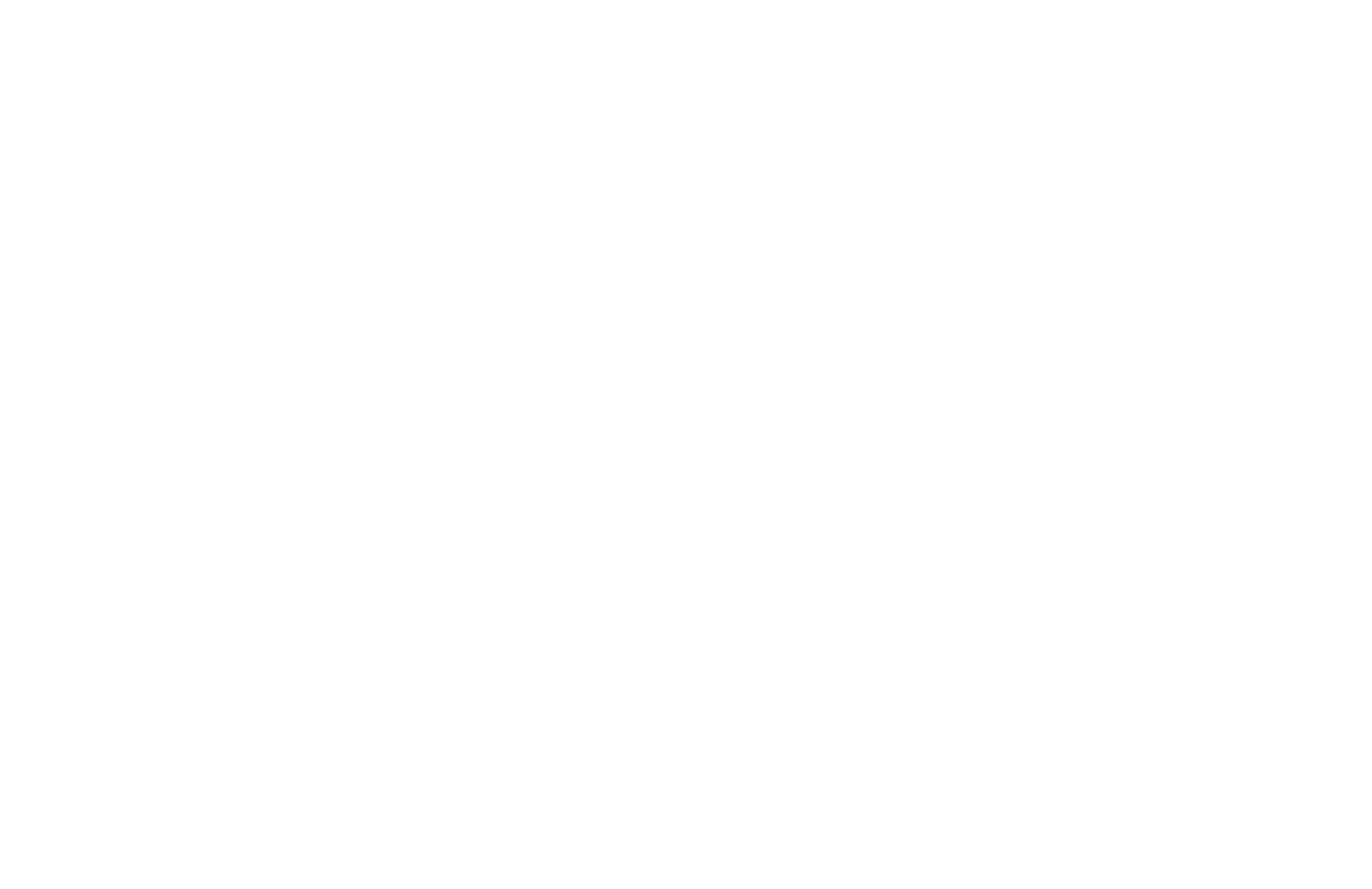
фото: cinetexts.ru
В 1950 году Анджеевский опубликовал собственный программный манифест – «Заметки. Признания и размышления писателя» (“Notatki. Przyznania i rozmyślania pisarza”), в котором критически оценил свое довоенное и военное творчество, признав его «интеллектуальной ошибкой», отказался от прежних принципов и убеждений, с восторгом отзывался о заслугах партии и ее благотворном влиянии на литературный процесс. Издание «Заметок» принесло писателю еще большее расположение властей, Анджеевский приобрел негласный статус «главного польского писателя». В 1950 году он был включен в состав делегации из 15 человек (главным образом, передовиков производства), которым выпала честь принять участие в праздничной первомайской демонстрации на Красной площади, а после в течение двух недель путешествовал по Москве и Ленинграду.
Впечатления от пребывания в СССР писатель собрал в книге с говорящим названием «О советском человеке» (“O człowieku radzieckim”, 1952), которая стала апофеозом преклонения перед советским образом жизни. В том же году была издана еще одна тенденциозная брошюра – «Партия и творчество писателя» (“Partia i twórczоść pisarza”), в полной мере отразившая тогдашние представления Анджеевского о роли писателя в социалистическом обществе.
Как справедливо отмечает А.Сынорадзкая, обе книги отличает «раболепное, почти “религиозное” отношение повествователя к авторитету партии и абстрактно понимаемому “рабочему классу”, а также панический страх перед совершением идеологической ошибки» [34].
В последующие годы Анджеевский не раз будет возвращаться к вопросу о том, что заставило его столь отчаянно и бескомпромиссно встать на сторону коммунистической идеологии, и наиболее правдоподобным ответом будет все та же потребность в подчинении некому «моральному авторитету», которая когда-то привела его в лоно католической церкви. С большой долей уверенности можно предположить, что марксизм, с его строгой системой ценностей и логичной схемой мироустройства, был для Анджеевского своеобразным «эквивалентом религии», требующим полного посвящения и самоотдачи. Неслучайно, годы спустя, писатель признается, что начало 1950-ых годов было для него едва ли не единственным периодом в жизни, когда он чувствовал себя абсолютно спокойным и счастливым [35].
Впрочем, очарование идеалами коммунизма не продлилось долго. Уже вскоре в рассказах Анджеевского из сборника «Золотая лиса» («Złoty lis»,1954) – «Победоносная война, или описание битв и стычек со спесивцами» («Wojna skuteczna, сzyli opis bitew i potyczek z zadufkami», 1952), «Почему я затрубил тревогу» («Dlaczego zatrąbiłem na alarm», 1953), «Большой плач бумажной головы» («Wielki lamеnt papierowej głowy», 1953) – появились элементы критики и недоверия по отношению к существующему строю. Анджеевский пародировал язык официальной пропаганды, выражал неуверенность в действиях партийных руководителей и сомнение в их непогрешимости.
Центральный рассказ сборника – «Золотая лиса» - повествует о мальчике, наделенном живым воображением и придумавшим себе волшебного друга в образе золотой лисы. Неспособных свободно мыслить взрослых раздражает мечтательная приверженность ребенка своему сказочному товарищу, они высмеивают Гжеся и запрещают ему «общаться» с лисой. Рассказ стал одним из первых текстов в творчестве Анджеевского, в котором писатель затрагивает тему взаимоотношений творческой личности и общества, отстаивает право художника на свое видение мира, на фантазию и мечту, сопротивляется давлению внешних сил на внутренний мир личности.
Именно эти темы станут доминантными в прозе Анджеевского после 1956 года, будут многократно преломляться и по-разному решаться в его последующих произведениях, в том числе в романах «Мрак покрывает землю», «Врата рая», «Идет, скачет по горам» и «Месиво», которые являются основным предметом настоящего исследования.
[1] Петров С. Творчество Ежи Анджеевского до романа «Пепел и алмаз» // Славянская филология. Сборник статей. Выпуск седьмой. М., 1968. С. 141.
[2] Kijowski A. Traktat o zbawieniu // Kijowski A. Arcydzieło nieznane. Kraków, 1964. S.89.
[3] Synoradzka-Demadre A. Wstęp // Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002. S.X.
[4] Именно эти качества Анджеевский считал наиболее ценными в прозе Ф. Мориака, а в одной из анкет того времени также называл прозу французского писателя «самым интересным для себя чтением». (См. об этом подробнее: Петров С. Указ соч. С.142).
[5] Kijowski A. Op.cit. S.90.
[6] Kijowski A. Op.cit. S.89.
[7] Detka J. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kielce, 1995. S. 228.
[8] Znak, 1958, № 3.
[9] В числе работ, поставивших под сомнение подлинно католическую направленность романа, см: Starowiejska-Morstinowa Z. Noc Diabła // Kultura, 1938, № 46; Książka o nieładzie serc // Tygodnik Powszechny, 1946, № 8. Близкую точку зрения выразила и Мария Домбровская, которая, высоко оценив художественные достоинства романа, (Домбровская входила в состав жюри в «Вядомостях литерацких» и горячо высказывалась за присуждение Анджеевскому главной награды), позже записала в своем дневнике, что книга Анджеевского скорее должна была бы называться не «Лад сердца», а «Смрад сердца» («Brud serca»). (Dąmbrowska M. Dzienniki. Warszawa, 1988. Zapisek od 13.01.1939).
[10] См. об этом подробнее: Andrzejewski J. Czerwony system pogardy // Trznadel J. Hańba domowa. Rozmowy s pisarzami. Warszawa, 1968; Lewandowski P. Blask i mrok. Rozmowa z Jerzym Andrzejewskim // Sztandar Młodych, 1981, № 183, № 189.
[11] Potkaj T. Czyściec mój będzie trwał długo // Tygodnik Рowszechny, № 16 (2806), 20.04.2003.
[12] Kijowski A. Op.cit. S.91.
[13] Kijowski A. Op.cit. S.92.
[14] Ibid. S.95.
[15] Анджеевский не раз подчеркивал, что история, описанная им в рассказе «Перед судом», имела место в реальной действительности и произошла в Люблине в 1939 году. Несмотря на это, рассказ не встретил одобрения коллег писателя, присутствовавших на его первом чтении (в числе первых слушателей рассказа были Р. Матушевский, М. Яструн, В. Беньковский, Я. Котт и др.). Большинство собравшихся резко осудили позицию Анджеевского, фактически оправдавшего предателя. Полемика вокруг рассказа «Перед судом» продолжалась и после окончания войны. См.: Dobraczyński J. Nadzieje wśród nocy // Dziś i Jutro, 1946, № 11.
[16] Петров С. Указ.соч. С. 151.
[17] Как указывают биографы, в военные годы Анджеевский окончательно свел счеты со своей религиозностью и даже пришел к выводу, что «никогда не был настоящим католиком» (См: Synoradzka A. Andrzejewski, Kraków, 1997. S.64).
[18] Анджеевский вспоминал в 1947 году: «Во время первой ликвидации гетто я жил в близком соседстве от его стен. Эти дни и ночи, наполненные отголосками оружейных залпов и коротких автоматных очередей, были самыми тяжелыми из всего периода оккупации». (Цит. по: Петров С. Указ. соч. С.153).
[19] Первая (не сохранившаяся) версия рассказа была написана в апреле и мае 1943 года и существенно отличалась от окончательного варианта текста, опубликованного в 1945 году.
[20] См. об этом подробнее: Potkaj T. Op.cit.
[21] Петров С. Указ соч. С. 153.
[22] Стоит отметить, что именно Краков в первые послевоенные годы стал литературной столицей освобожденной Польши. В 1945 году сюда из Лодзи переезжает редакция общественно-литературного журнала «Одродзене», сплотившего вокруг себя писателей, выразивших полную поддержку новому просоветскому строю. В августе 1945 года в Кракове также начинает выходить еженедельник «Твурчость», возглавляемый выдающимся критиком К.Выкой.
[23] В 1949 году фильм на сюжет «Варшавского Робинзона» все-таки вышел на экраны страны под названием «Непокоренный город» (Miasto nieujarzmione, реж. Е. Зажицки, Лодзь, 1949). Однако изменения, внесенные цензурой в сценарий картины, были столь явные и тенденциозные, что и Анджеевский, и Милош отказались указывать свои имена в титрах фильма. В 2001 году к истории Шпильмана обратился знаменитый польский кинорежисеер Роман Поланский, сняв на ее основе один из лучших своих фильмов — «Пианист». В основу сценария фильма легли воспоминания самого Шпильмана, впервые опубликованные в Польше в 1946 под названием «Гибель города» («Zagłada miasta») и переизданные в 2000 году. В 2003 году фильм Поланского «Пианист» получил 39 престижных кинонаград, в том числе: 3 премии «Оскар» Американской академии киноискусства, 7 «Сезаров» (высшая награда Французской академии кино) и «Золотую пальмовую ветвь» на Международном кинофестивале в Каннах. На русском языке воспоминания Шпильмана были изданы в 2001 году (Шпильман В. Пианист. Варшавские дневники 1939−1945. М., 2001).
[24] Детальную историю становления романа «Пепел и алмаз», основанную на знакомстве с рукописями и личными архивами Анджеевского, излагает в своей статье С. Петров: Петров С. Творческая история романа Ежи Анджзеевского «Пепел и алмаз» // Славянская филология. Сборник статей. Выпуск четвертый. М.1963. С. 271−286.
[25] Петров С. Указ.соч. С. 275.
[26] Джозеф Конрад (1857−1924) — выдающийся английский писатель польского происхождения (в 17 лет Теодор Юзеф Конрад Коженевский оставил Польшу и всю жизнь писал по-английски). Автор романов о моряках и дальних плаваниях (самый известный из них — «Лорд Джим», 1900), героям которых свойственно особое мужество и чувство долга. В 1945−46 годы в польской критике развернулась масштабная дискуссия о моралистике творчества Конрада, по сути представлявшая собой спор об этических установках молодежи Армии Крайовой, девизом которой стала конрадовская «верность самому себе».
[27] Роман «Пепел и алмаз» 40 лет входил в школьную программу, свыше 30 раз переиздавался в Польше, (общий тираж превысил 1 млн. экземпляров), переведен более чем на 20 языков мира. Сюжет книги лег в основу сценария одноименного фильма (сцен. Е. Анджеевский, реж. А. Вайда, в гл. роли З.Цыбульский. Варшава, 1958), ставшего классикой мирового кинематографа. До сих пор книга входит в «Золотую сотню мировой литературы», составляемую критиками различных стран.
[28] Об этой и других критических оценках романа см.: Gawliński S. Pisma i Postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. Kraków, 2002.
[29] Дискуссия вокруг романа «Пепел и алмаз» не утихает до сих пор. За последние несколько лет число упреков в адрес самой известной книги Анджеевского существенно возросло. Среди них — громкое обвинение, высказанное Збигневом Херебертом в интервью Я. Тшнаделю, что «Пепел и алмаз» был якобы написан Анджеевским по заказу спецслужб или даже по поручению самого Берута (См: Trznadel J. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1968). Позже это предположение Херберта было подхвачено и всесторонне развито К. Конколевским в книге «Алмаз, найденный в пепле», где, в частности, утверждается, что прообразом Мачека Хелмицкого послужил агент КГБ. (Kąkolewski K. Diament znaleziony w popiele. Warszawa, 1995).
[30] Незадолго до смерти в знаменитом интервью Я. Тшнаделю (Czerwony system pogardy. Rozmowa z J. Andrzejewskim // Trznadel J. Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Warszawa, 1968), Анджеевский говорил, что после 1957 года (с момента окончания работы над сценарием для Вайды) ни разу больше не заглядывал в текст «Пепла и алмаза», хотя известно, что обычно писатель часто возвращался к другим своим произведениям, делал пометки и вносил правки.
[31] Synoradzka A. Op.cit. S.92.
[32] В течение всех последующих лет возобновлялась именно эта «идеологически верная», но в художественном отношении наименее удачная версия книги.
[33] Synoradzka A. Op.cit. S.98.
[34] Synoradzka A. Op.cit. S.107.
[35] См. Об этом подробнее: Andrzejewski J. Wyznanie osobiste // Nowe opowiadania. Warszawa, 1980.