РАСЧЕТЫ С ПРОШЛЫМ В РОМАНЕ «МРАК ПОКРЫВАЕТ ЗЕМЛЮ»
Близко знакомый с Анджеевским композитор Зыгмунт Мыцельский записал в своем дневнике 4 апреля 1955 года: «Около 11-ти вечера постучался Анджеевский. Сказал: мне так плохо, что я не знаю, что делать. Начал плакать <…> Он думал, что принятие основной линии партии будет как обращение в новую веру, как крещение, а сам он станет моральным компасом партии <…> Все, естественно, псу под хвост» [1].
Хотя Анджеевский продолжал быть полноправным членом ПОРП, (писатель выйдет из партии только в 1957 году), период слепого неофтиского подчинения политическим доктринам остался для него в прошлом. Уже в начале 1955 года на страницах регулярного фельетона, который Анджеевский вел в газете «Нова Культура», он признавался, что политическая ангажированность сталинских лет для него теперь «пройденный этап» [2].
В коротких заметках, получивших название «Страницы дневника читателя» («Kartki zdziennika lektury»), он приводил многочисленные примеры лжи, бессмыслицы и несправедливостей, сопровождавших повседневную жизнь социалистической Польши, критиковал закосневшую бюрократическую систему, сопротивлявшуюся реформам.
Как и прежде, Анджеевского особенно волновали вопросы личной ответственности человека за его участие или равнодушие к происходящему. Писатель сохранял надежду «сделать коммунизм лучше» и верил, что ее осуществление возможно при условии всеобщей готовности к переменам даже в ущерб собственному благополучию. Такая трактовка не могла устроить чиновников от культуры: в мае 1955 года выход фельетона был временно приостановлен.
Запрет публикации заметок не остановил Анджеевского на пути отказа от приверженности партийной идеологии. К этому времени писатель почти полностью прерывает свою общественную деятельность, открыто критикует культурную политику ПОРП и фактически отрекается от предшествующего творчества [3].
В ноябре 1955 года Анджеевский приступил к работе над новым романом, который должен был поставить точку в его недолгой карьере партийного писателя. В. Британишский пишет: «Работа над этой вещью была излечением, выздоровлением от болезни сознания, от „умопомрачения“, как воспринимал он теперь пережитые им годы» [4].
Действие книги, получившей впоследствии название «Мрак покрывает землю» («Ciemności kryją ziemię»), разворачивается в средневековой Испании. Главным героем нового романа стал Великий инквизитор Томас Торквемада, возглавлявший испанскую инквизицию с 1483 по 1498 год и прославившийся своей особой свирепостью и непримиримостью в борьбе против еретиков.
Великий инквизитор Торквемада!
Смертная казнь грозила любому — от ремесленника до вельможи — за обвинение в инакомыслии, приверженности к другой вере или колдовстве. «Его жертвами могут стать ближайшие родственники, друзья, первый встречный» — писал один из современников Великого инквизитора [6].
Своим религиозным фанатизмом Торквемада сумел заразить испанскую правящую чету — Изабеллу и Фердинанда — и в 1492 году склонил их к высылке из страны всех иудеев. Страх отлучения от церкви заставлял королевский двор поддерживать все начинания инквизиции, наделив Торквемаду практически неограниченной властью.
Эти и другие факты из жизни Великого инквизитора легли в основу фабулы романа «Мрак покрывает землю».
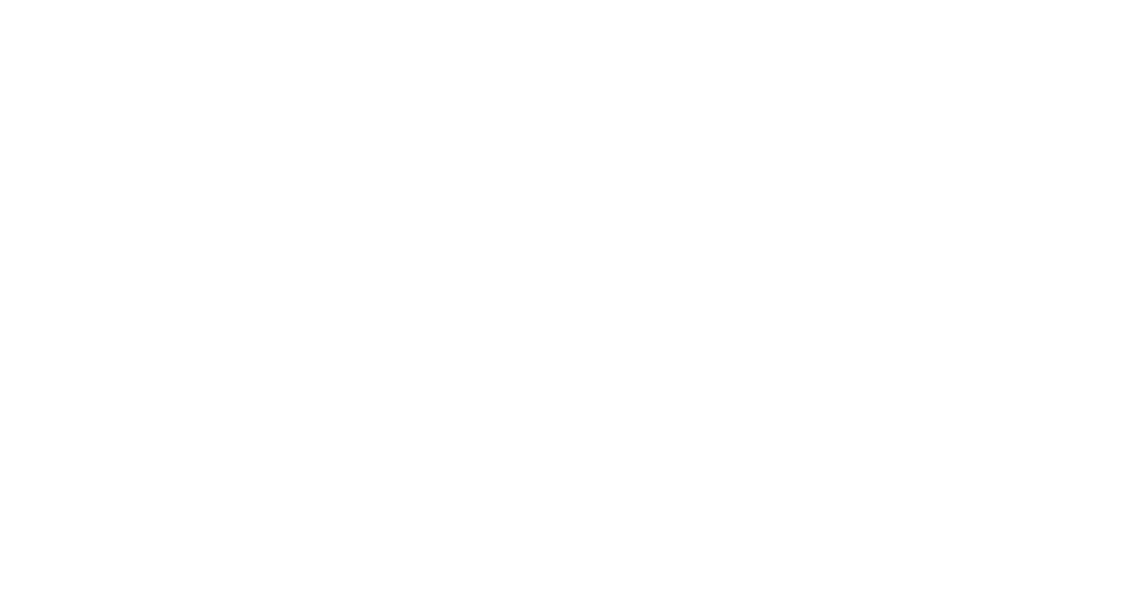
фото: helperia.ru
А почему зашло — никто не отвечает;
Покрыла землю тьма, забылись люди сном,
Но чем навеян сон — никто не вопрошает [7].
Образы-символы тьмы, мрака и сна, привнесенные писателем из романтической поэтической метафорики [9], занимают в поэтике романа «Мрак покрывает землю», (как, впрочем, и во всем творчестве Анджеевского), ключевое место.
Еще говоря о романе «Лад сердца», Я. Детка подмечал, что Анджеевский «связывает по смыслу „мрак“ и „грех“ <…> В плане изображения ночь скрывает преступление, в плане содержания — символизирует его» [10]. По мысли критика, Анджеевский выстраивает в своих ранних произведениях ассоциативную цепочку: ночь — тьма — «потемки души» — зло — грех — смерть — дьявол.
В романе «Мрак покрывает землю» этот ряд дополняется новыми элементами. Опыт войны и первых послевоенных лет открыл перед писателем иную, не менее зловещую форму воплощения «темных сил»: мрак невежества, страха и предрассудков, порождающий страшный сон фанатизма и массовых заблуждений.
Писатель создает универсальный образ страны, погруженной во тьму бесправия и беззакония, и образ политической власти, основанной на страхе. Атмосфера Испании ХV века, содрогавшейся от произвола и бесчинств инквизиции, проецируется на реальность 1950-ых годов, превращая произведение Анджеевского в многоплановую философскую и политическую аллегорию, в параболу, далеко выходящую за границы жанра исторической прозы.
Обращаясь к фактам средневековой истории, Анджеевский не стремится к полному историческому правдоподобию, напротив, повествование в книге только внешне стилизовано под исторический роман, а точнее под «некую старинную испанскую хронику» [11].
Ян Блоньский пишет: «Проблематика романа явно анахронична: и герои, и конфликт немыслимы в Испании ХV века» [12].
Анджеевский использует реалии средневековой Испании как своеобразный «костюм», декорации, в которых разыгрывается далекий от исторической проблематики конфликт. Как справедливо отмечает В. А. Хорев, Анджеевский создал роман «исторический лишь по сюжету» [13] или «квази-исторический» [14], если говорить словами Т.Валас. Стилизованное обращение к прошлому в нем продиктовано, главным образом, необходимостью преодоления запретов цензуры, не допускавшей открытой политической критики.
Приемы поэтики иносказания («исторический костюм», эзопов язык, умолчание) в это время активно использовали многие польские писатели, пытавшиеся в замаскированной аллегорической или аллюзийной форме передать нараставшее в обществе недовольство официальной политикой властей, выразить набиравшее силу неприятие диктатуры. Яцек Бохеньский, автор романов на исторические сюжеты «Божественный Юлий» и «Назон-поэт», открыто говорил, что для их автора «важен отнюдь не конкретный исторический факт, а определенная абстрактная модель, пригодная для разных фактов, независимо от времени» [15]. В результате в польской литературе начала 1960-ых годов получила второе рождение такая литературной форма, как притча или парабола.
Суть параболы как повествовательной формы состоит в своеобразной «траектории» развития действия. Мысль в параболе движется как бы «по кривой», начинаясь и заканчиваясь одним предметом, а в середине удаляясь к другим, казалось бы, никак не связанным с ним объектам (отсюда название — «парабола», т. е. кривая, оба конца которой равноудалены от центра и устремлены в бесконечность).
Параболическая форма повествования восходит к жанру притчи и нередко отождествляется с ним, хотя современное литературоведение склонно разграничивать понятия притча и парабола, понимая под притчей эпический жанр, представляющий собой краткий назидательный рассказ в аллегорической форме, а под параболой — специфический способ организации текста, характерный для притчи [16].
В основе как притчи, так и параболы всегда лежит иносказание — отсылка к некому внеположному смыслу, который по тем или иным причинам не может быть передан прямо.
В польских романах-параболах второй половины ХХ века подчеркнутая, декларативная иносказательность, как правило, приобретала дополнительное значение — конспирации [17]. Замаскированный подтекст, завуалированное «послание» такого текста, адресовались избранным «посвященным», способным расшифровать скрытые намеки на политическую действительность.
К моменту публикации романа «Мрак покрывает землю» (в 1957 году) даже самому неискушенному читателю в Польше не составляло труда провести параллель между событиями, описанными в книге, и действительностью постсталинского периода. Неистовый глава Инквизиции падре Торквемада для большинства современников Анджеевского обнаруживал сходство с реальными политическими диктаторами — Сталиным и Гитлером [18], а эпоха его правления — со временами нацизма и «культа личности».
В.Британишский не без горькой иронии замечает: «Цифры XV века скромнее, чем цифры ХХ века: Торквемада за 16 лет сжег „всего лишь“ 10 тысяч человек, его преемник Диего Деса за восемь лет „всего лишь“ 2,5 тысячи, но тоталитарный характер инквизиции, тоталитарный характер средневекового католичества несомненны. Кто-кто, а уж Анджеевский-то хорошо помнил, как польские национал-радикалы 1930-ых годов, призывая создавать в городах еврейские гетто, ссылались на средневековые папские буллы, на высказывания Фомы Аквинского» [19].
Роман «Мрак покрывает землю» пополнил число произведений, сформировавших в Польше так называемую «литературу расчета», в которой писатели, еще недавно целиком приверженные идеалам ПОРП и активно участвовавшие в построении «нового лучшего строя», пытались разобраться в себе, своих ошибках и заблуждениях, «сводили счеты» с недавним прошлым.
Для Анджеевского, не понаслышке знакомого с методами воздействия тоталитарной системы на сознание и духовный мир личности, роман стал почти исповедальным. Как пишет Британишский, книга была «исповедью недавнего партийного догматика 1952 года и при этом также бывшего католика 1938 года. Ощущение личной вины, личной ответственности писателя, который верил искренне, но объективно „служил“ системе, придает книге эмоциональный накал» [20].
По мнению Т. Валас только историческая маска, отчасти скрывшая откровенность признаний, уберегла писателя от литературного «эксгибиционизма» и позволила придать роману внеситуативное, историософское измерение [21].
Выстраивая свою политическую аллегорию, Анджеевский стремился не просто бросить вызов системе, но найти источник существующего в мире зла, открыть причины деморализующей силы власти, жертвой которой когда-то довелось оказаться ему самому.
Как отмечает В. Ведина, «исторический костюм и декорация, обращение к судьбе конкретных исторических личностей способствует показу переклички времен, повторяемости некоторых явлений в разных эпохах, раскрытию так называемого общего знака, сходной модели или формулы в характере решения общественных проблем и человеческой психологии» [22]. Лаконизм притчи, универсальность ее смысла и многозначность символики отвечают потребностям современной литературы в более глубоком осмыслении жизни и истории. Отсылка к историческим или мифологическим сюжетам открывает возможности для создания глубоких философских картин, для выхода через сопоставление разных эпох на уровень общечеловеческих, универсальных обобщений.
В.И.Тюпа пишет: «притча повествует не об однократных событиях общеисторической (сказание) или частной (анекдот) жизни, но о том, что — по убеждению соучастников притчевого дискурса — существовало и будет существовать всегда, что неизменно или что случается постоянно» [23].
Именно о таких, вневременных, постоянных величинах — власти, страхе, раскаянии, вере, тщеславии — повествует роман Ежи Анджевского «Мрак покрывает землю».
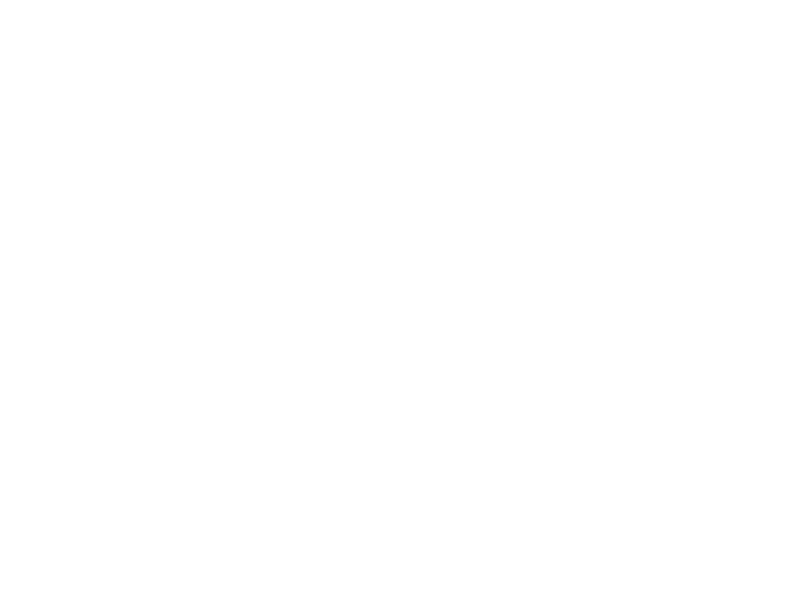
Фото: nowy.pl
Уже первые строки романа задают настроение и основное направление развития сюжета: летописец, от лица которого ведется повествование в романе, скрупулезно отмечает, что с прибытием кортежа инквизиторов «улицы города <…> опустели, попрятались торговцы-евреи со своими лотками, из трактиров и винных погребков не доносился гомон голосов, на окнах большинства домов жалюзи были опущены» (С.7).
В этом коротком, но емком описании сосредоточено напряженное ощущение оцепенения и страха, в которое повергает испанский город прибытие Великого инквизитора. Именно страх, его природа и последствия, являются главной темой и основным предметом исследования в романе «Мрак покрывает землю».
Анджеевский, вслед за французскими просветителями, определяет тиранию по принципу всеобщего страха. Страх есть важнейшее орудие террора, на котором зиждется авторитарная власть: только человек, испытывающий постоянный страх, теряет волю, уверенность в себе, становится послушным и управляемым. Поэтому главная задача власти — внушать страх. «Тот, кто боится, тот виноват» (Мрак…, с.9), «вероятность вины это субъективное, преходящее неумение доказать ее безусловность» (С.60) — вот, по Анджеевскому, главные принципы построения и функционирования всех тоталитарных систем — от средневековой инквизиции до фашизма, от античной тирании до сталинских репрессий.
Устами главного героя романа — преподобного отца Томаса Торквемады — писатель формулирует универсальную концепцию диктатуры как модели власти, целиком основанной на страхе.
Великий инквизитор провозглашает: «Человек — жалкое существо, он должен постоянно испытывать страх, это необходимо. Желая заклеймить зло, мы неустанно должны выявлять и обнажать его, чтобы, представ во всей своей неприглядности, оно вызывало отвращение и, прежде всего страх. Это непременный закон власти! Если настанет день, когда не окажется виновных, мы должны изобрести их, чтобы порок ежечасно разоблачался публично и карался. Истина, пока не восторжествует, не может существовать без своей противоположности — лжи. За исключением горстки людей, преданных нам по доброй воле, страх должен стать всеобщим. Им должна быть проникнута вся жизнь, вплоть до глубочайших ее тайников, чтобы человек не мыслил существования без страха — вот непременное условие нашей власти. Жена не доверяет мужу, родители да убоятся детей своих, жених — невесты, начальники — подчиненных и все вместе взятые — вездесущей и, справедливо карающей инквизиции. Власть наша основана на страхе» (С.39).
По мысли Анджеевского, одно из наиболее опасных свойств террора — это его способность репродуцировать и поддерживать самого себя. «Что такое храбрость? Ее вообще нет! — восклицает один из героев романа. — Есть только страх. Поначалу человек пытается сопротивляться ему. Он лжет или молчит. Но ложь и молчание лишь уснащают почву для страха. И постепенно человек со всеми своими мыслями и чувствами становится его добычей. Во всем изверившись, ты убеждаешься, в конце концов, что только страх никогда тебя не оставит. Один он тебе верен. На него можно положиться: он не покинет, не предаст. Приняв это как должное, можешь жить спокойно и споспешествовать пришествию Царства Божьего» (С.103).
Люди, парализованные страхом, теряют силы к сопротивлению, а если среди них и находятся те, кто отважился восстать против системы, их отчаянные попытки обречены на провал: покушение на диктатора провоцирует новую волну репрессий, вселяющих в людей все новые страхи.
Милан Кундера назвал такую ситуацию «режимом процесса»: «Если суд навязывает какой-то стране режим процесса, весь народ задействован в больших маневрах процесса и в сотню раз увеличивает его эффективность; все и вся знают, что в любое время могут стать обвиняемыми, и заранее продумывают самокритику <…> Поскольку процесс начинают не для того, чтобы установить справедливость, а для того, чтобы уничтожить обвиняемого» [24].
Безотказную действенность этого режима иллюстрирует в романе Анджеевского сюжетная линия, связанная с убийством инквизитора Сарагосы каноника Педро Арбуэса, (известие о его гибели встречает Торквемаду сразу по прибытии в Вильяреаль).
Как указывает повествователь, Великий инквизитор сам возглавил следствие об убийстве преподобного д’Арбуэса и «карающая рука инквизиции» не пощадила никого: «В тюрьмы бросали не только тех, кто кого подозревали в соучастии в заговоре, но и тех, кто оказывал помощь беглецам. Арестованы были также семьи осужденных, особенно, если отцу или сыну удалось скрыться. Широкой публике только теперь стало известно, как много знатных вельмож, занимавших высокие должности в королевстве и пользовавших всеобщим почетом, запятнаны иудейским происхождением. <…> Однако, несмотря на устрашающую картину нравственного падения, немеркнущий свет католичества еще ярче воссиял в эти дни над зловонной клоакой порока. <…> В нескольких городах королевства <…> поспешили устроить торжественные аутодафе. <…> Пылали костры, грешников, которые в последнюю минуту раскаялись, удушали железными цепями, сотни менее опасных преступников ссылали на галеры, но опустевшие тюрьмы заполнялись новыми узниками. <…> Вера в народе укреплялась, и, как неотступная тень, за ней следовал страх». (С.44).
Методы, которыми действует средневековая инквизиция (клевета, доносы, повальные аресты, лжесвидетельство), без сомнения, позаимствованы Анджеевским из арсенала современных спецслужб. По мнению некоторых критиков, в романе «Мрак покрывает землю» нашло отражение личное знакомство писателя с полковником Управления госбезопасности Ружаньским, с которым Анджеевский сблизился благодаря содействию Ирены Шиманьской. Сама Шиманьская так объясняла желание Анджеевского быть представленным этому опасному человеку, снискавшему себе славу жестокого палача: «Ежи завораживало, что пытая людей, тот познал самые глубины души человеческой» [25].
Инквизиция декларирует всё те же благие цели приближения «Царствия Христова», (транслитерирующего в христианской догматике коммунистическое «светлое будущее»), апеллируя для оправдания своих поступков к безнравственной и чреватой огромными моральными потрясениями идиоме цель оправдывает средства. А наивная «оправдательная» оценка, которую дает событиям книги повествователь, стилизованный под доверчивого летописца XV века, только усиливает пародийное начало, вызывая невольные аналогии с пропагандистским пафосом послевоенной польской прессы.
В основе морали, проповедуемой Торквемадой и его соратниками, как и в основе любой тоталитарной идеологии, лежит презрение к человеку, убеждение в его слабости и порочности, позволяющее горстке избранных, претендующих на знание Истины, «спасать человечество насильно».
«Зло не всесильно и не непобедимо! Это человек слаб, из-за его порочности, несовершенства и неразумия зло возрождается вновь и вновь, и чем большую силу обретает истинное учение, тем все более неожиданную, замаскированную форму оно принимает» — проповедует Торквемада, — «Чего достиг бы человек, предоставленный самому себе? Его сознание еще не готово воспринять Царство Божие. <…> Людей надо спасать насильно, вопреки их желанию. Понадобятся долгие годы, чтобы перестроить сознание людей, очистить его от скверны, вытравить из него все то, что отдаляет пришествие Царства Христова. Людьми надо руководить и управлять <…> Это наша обязанность. Сей тяжкий труд возложен на нас, на святую инквизицию. Бог поставил нас в первых рядах своего воинства. Мы — разум и меч истины, ибо мысль и деяние едины» (С.35).
Свидетельством пагубности насильственно навязанной идеологии «счастья против воли» становится в книге Анджеевского судьба молодого монаха доминиканского монастыря Дьего, образ которого во много автобиографичен. Как пишет В. Ведина, Дьего выступает в романе «как сфера приложения грозных, сметающих все подлинно человеческое сил» [26].
«Совсем юный, невысокого роста, щуплый, с загорелым почти детским лицом» (С.7) фра Дьего предстает перед читателем в начале романа как явный (и единственный) антагонист Торквемады, готовый противостоять его безграничной власти.
Ставший однажды в Севилье свидетелем чудовищного квемадеро, на котором сжигали одновременно сто человек, молодой монах ощущает вину и стыд за то, что вынужден носить ту же сутану, что и те, кто «данную им власть употребляет не во благо, а во зло людям, обрекая их на страшные муки и страдания <…> попирает справедливость, злонамеренно клевещет, обвиняет в не содеянном, судит неправедным судом <…> сеет семена вражды и страха, понуждает близких своих к криводушию» (С.26).
Узнав о прибытии в город Великого инквизитора, доминиканец в исступлении восклицает: «Единственно, о чем я могу просить Бога, это ниспослать ему смерть» (С.8).
В напряженном противостоянии юного монаха и грозного старца для Анджеевского раскрывается не только столкновение двух взаимоисключающих идеологий — свободы и устрашения, но и более глубокий, философский конфликт взаимного притяжения-отталкивания — молодости и старости, наивности и мудрости, душевной чистоты и калечащего жизненного опыта. Конфликт, который будет волновать писателя на протяжении всего его последующего творчества.
В системе образов романа Дьего — и антагонист, и скрытый двойник Торквемады, причем оба героя, очевидно, несут в себе немало личного, автобиографичного, пережитого и выстраданного самим Анджеевским.
«Кто ты, не ведаю, но знаю тебя давно» (С.27) — говорит фра Дьего Великому инквизитору при первой встрече, еще не догадываясь, кто стоит перед ним. И позже: «Я знаю тебя с тех пор, как помню себя. <…> Но ты — это не я. Ты — мой антипод, мы взаимно исключаем друг друга» (С.31).
Склонность к напряженным, почти детективным конфликтам и усложненным «зеркальным» композициям, населенным множеством психологических и идеологических «двойников» (такие пары составляют не только Дьего и Торквемада в романе «Мрак покрывает землю», но и Хелмицкий с Щукой в «Пепле и алмазе», Нагурский и сам Анджеевский в «Месиве», Жак и граф Людовик во «Вратах рая»), писатель во многом наследует у Ф. М. Достоевского, художественная философия которого всегда была ему близка.
«Я воспитывался на Достоевском и на нашем Жеромском» — вспоминает Анджеевский в одном из своих дневников. — Школа не наихудшая, но главная ее ценность была в том, чтобы ее преодолеть" [27].
Влияние Достоевского без труда можно уловить еще в ранних произведениях польского писателя. Сразу после выхода романа «Лад сердца», в начале 1930-ых годов, польская критика подчеркивала, что книга Анджеевского буквально «вырастает из круга Достоевского» [28]. Позже «достоевские» мотивы будут отчетливо видны в романе «Пепел и алмаз» (в сюжетной линии, связанной с убийством юного Януша Котовича, которое, по меткому замечанию В. Британишского, представляет собой «как бы молодежный, детско-подростковый вариант убийства в „Бесах“ Достоевского» [29]). Очевидной «квази-цитатой» из «Бесов» станет и а-ля ставрогинский жест Марека Костки в романе «Идет, скачет по горам».
Милан Кундера в своей книге «Нарушенные завещания» отмечает еще одну характерную особенность поэтики Достоевского: «Личность героев Достоевского заключается в их личной идеологии, которая более или менее непосредственно определяет их поведение. Кириллов в „Бесах“ полностью поглощен идеей самоубийства, которую он считает высшим проявлением свободы. Кириллов: мысль, ставшая человеком»[30]. То же, на наш взгляд, можно сказать о героях романа Анджеевского «Мрак покрывает землю», каждый из которых является носителем своей собственной «личной идеологии», часто заменяющей или оттеняющей на второй план их личную психологию.
Связь поэтики романа «Мрак покрывает землю» с художественными открытиями Достоевского подсказывает и само обращение Анджеевского к образу Великого инквизитора, впервые мифологизированному великим русским беллетристом. В своем романе «Братья Карамазовы» Достоевский воспользовался метафорой средневековой инквизиции для постановки философских вопросов истины и свободы, которые, почти век спустя, будут волновать польского писателя.
Анджеевский так же, как некогда Достоевский, (а точнее его герой Иван Карамазов), устраивает умирающему инквизитору «очную ставку» с самим Дьяволом, который выступает как своеобразное alter ego святого отца. В разговоре с Дьяволом (а, может быть, с собственной совестью?) Торквемада впервые задается вопросом, который становится основным посылом, философской квинтэссенцией романа: «Я создал систему и, как следствие ее, людей, которые ей служат. Что делать с ними, если система оказалась бредовой и пагубной? Как ликвидировать террор, если он породил людей, которые видят в нем смысл жизни?» (С.107).
Этот вопрос касается, главным образом, судьбы монаха Дьего, который с течением времени под влиянием Торквемады и его соратников превращается в одного из таких «людей системы», не знающих и не представляющих себе жизни вне нее.
Молодой монах, говоря словами В. Британишского, «предстает поначалу пылким и честным энтузиастом, которого ужасают преследования и казни. Лицемером, доносчиком, палачом его делает система. Система, которой он взялся служить» [31].
На примере судьбы Дьего Анджеевский восстанавливает все те этапы последовательного попадания личности в зависимость от идеи, через которые некогда довелось пройти и ему самому, и многим его современникам, и которые действуют неизменно и безотказно на протяжении веков.
Рассмотрим подробнее каждый из этапов этого пути.
отрицание
В первой главе романа Дьего выступает ярым противником святой инквизиции, идей и методов, которыми она руководствуется для установления и поддержания своей власти. Беззаветность и прямота, свойственные, по мысли Анджеевского, только очень молодым, нравственно чистым людям, лишают юного монаха страха перед всемогущим главой инквизиции: «Ненависть во мне сильнее страха» — признается Дьего (С.27). Движимый этой ненавистью и обуреваемый тяжкими сомнениями, молодой герой в отчаянном порыве открывает свои тайные помыслы пожилому монаху, случайно встреченному в монастыре во время ночной молитвы. Излив ему душу и признавшись в самых мрачных своих мыслях, Дьего узнает, что исповедовался перед самим Великим инквизитором.
обаяние
Для Анджеевского важно, что Дьего отступает перед Торквемадой не из страха, который ему по-прежнему неведом, а поддавшись мужественному «обаянию» личности Великого инквизитора, не дрогнувшего перед смертельной опасностью. Как и многие диктаторы, Торквемада — яркая, харизматичная личность, наделенная множеством достоинств: ясностью ума, прозорливостью, несгибаемой волей и отвагой. Более того, как все палачи, (в этом Анджеевский убедился лично, благодаря знакомству с полковником Ружаньским), Великий инквизитор — тонкий психолог и знаток человеческой души. Вопреки всем правилам Торквемада не призывает стражников, чтобы обезоружить Дьего, а предлагает ему прочесть совместную молитву, зная, что именно этот великодушный жест смутит душу юноши и сделает его полностью беззащитным. «Ком подступил к горлу Дьего, и под опущенными веками закипали слезы. — «Да приидет Царствие Твое «- повторил он тихо, чтобы не выдать дрожи в голосе. — «Да прибудет воля Твоя, яко на небеси и на земли» — совсем тихо повторил Дьего. Он чувствовал, что не справится с охватившим его волнением и при следующих словах расплачется» (С.28). С этого момента история жизни монаха доминиканского монастыря Дьего становится историей перерождения совестливого, порядочного человека в жестокого и беспринципного служителя системы, настолько близкого диктатору, что именно ему он поверяет свои сокровенные мысли и планы.
искушение
Благодаря новой должности, Дьего получает многочисленные привилегии, почести и уважение, но главное — почти неограниченную власть, которая тешит его самолюбие и вселяет не изведанную доселе уверенность в себе: «Он заметил, что к почтению, с каким относятся к нему окружающие, <…> примешивается страх. И тогда он понял: <…> он стал выразителем воли самого могущественного человека в королевстве». (С.45). Испытание властью оказывается роковым для молодого монаха: при малейшей угрозе своему нынешнему положению Дьего выявляет способность пойти на крайний поступок — предает и обрекает на смерть своего единственного друга — доминиканца Матео, свидетеля его юношеских дум и сомнений. С этой минуты для Дьего уже нет пути назад, он становится неотъемлемой частью системы, которую создает и которой служит. Предательство не вызывает в герое ни внутреннего разлада, ни угрызений совести, напротив, как отмечает повествователь: «Он был бесконечно счастлив, его переполняло чувство свободы и безопасности, словно преследовавшие его доселе сомнения остались за внезапно и навсегда захлопнувшейся дверью» (С.76).
Последняя воля Великого инквизитора осталась не исполненной, потому что, и об этом предупреждает Анджеевский, со смертью диктатора диктатура не умирает: систему, пусть даже в агонизирующем состоянии, продолжают поддерживать «люди системы», однажды порожденные и взращенные ею, такие, как фра Дьего.
Опубликованный в 1957 году роман вызвал неоднозначные оценки критики. В числе наиболее часто повторяющихся упреков упоминались: схематизм ситуации и условность персонажей, лишенных, по мнению ряда польских исследователей того времени, индивидуальности и психологизма.
После психологической глубины «Лада сердца» и эпической широты «Пепла и алмаза» критика вправе была ожидать от Анджеевского роман аналогичного размаха и накала. Однако в отличие от предыдущих книг, (если не принимать в расчет откровенно конъюнктурные «Партия и творчество писателя», «О советском человеке» и т. п.), роман «Мрак покрывает землю» оказался наименее насыщенным, как с точки зрения психологической глубины поступков и характеров персонажей, так и исторической событийности.
А.Кийовский в 1957 году писал: «Торквемада — не психологический персонаж <…> То же самое можно сказать о Дьего» [34]. И дальше: «Роман Анджеевского, оторванный от психологии, оторванный от исторической конкретики, оторванный от четких доктрин, построенный только из тонких моральных материй, относящихся к деятельности вообще и к мышлению вообще, отзывается пустотой» [35].
Оценки критики во многом понятны и объяснимы, но не всегда оправданны. Мы уже не раз отмечали выше, что в своем романе о Великом инквизиторе Анджеевский опирается на риторику притчи (параболы), с ней в значительной степени связаны художественные особенности романа.
Как пишет академик В. И. Тюпа, картина мира, моделируемая притчей, это «императивная картина мира», т. е. действующие лица притчи предстают перед нами не как «''объекты» эстетического «наблюдения» (именно таковы герои сказания или анекдота), «но как субъекты этического выбора». Все их поступки в притче есть реализация такого выбора" [36]. Для притчи характерно отсутствие развитого сюжетного движения, персонажи притчи почти всегда в меру условны, а фабула может быть ослаблена, если не редуцирована полностью [37]. Сама риторика притчи, говоря словами Тюпы, это риторика «императивного, учительного, монологизированного слова» [38], которая не предусматривает художественной описательности (притча не изображает, а сообщает).
Именно это мы можем наблюдать в романе Анджеевского «Мрак покрывает землю». Та психологическая (а отчасти и изобразительная) «скупость», условность, которую не раз вменяли в вину Анджеевскому, проистекает, главным образом, из особенностей повествовательной формы, на которую ориентировался автор, и во многом компенсируется символическим наполнением отдельных событий и образов.
В изображении судеб своих героев писатель опирается на художественные открытия Ф. М. Достоевского, чье творчество всегда было ему близко, и одновременно наследует принципы античной и раннехристианской житийной литературы.
Как указывает М. Бахтин, в кризисном житие и в житийных образцах античного авантюрно-бытового романа «дается обычно только два образа человека, разделенных и соединенных кризисом и перерождением — образ грешника (до перерождения) и образ праведника-святого (после кризиса и перерождения)…» [39].
В книге Анджеевского так же на первый план выступает момент метаморфозы: греховная жизнь — кризис — искупление — святость.
Согласно этой модели строится романная биография Торквемады, пережившего на последних страницах книги «спонтанное» перерождение вполне в духе христианской житийной литературы.
Судьба его преемника Дьего — это «житие наоборот» [40]: перерождение молодого монаха после встречи с Великим инквизитором становится началом его падения, перехода на сторону сил зла, которым он и останется верен до конца.
Переворачивая традиционный житийный сюжет, Анджеевский подводит читателя к мысли опессимистической концепции истории, в которой все повторяется и все возвращается, но часто без (или против) всякого смысла, в искаженных, перевернутых формах.
Несмотря на ситуативную актуальность и определенную ангажированность затронутых в романе проблем, на наш взгляд, писателю удалось создать произведение глубокое, небанальное и вневременное по своей сути. Как справедливо отмечает А. Байздренко, «с течением времени меняется читательское восприятие текста. Очевидное политическое звучание литературной притчи отходит на второй план, заметнее становятся художественные достоинства и глубина затронутых „вечных“ проблем» [41].
Анджеевский не ограничивается намеками на современность, его интересуют экзистенциальные вопросы — о смысле истории и человеческой жизни. Поиск ответов на них писатель продолжит и в следующем, возможно, лучшем из своих романов — историософской притче о крестовом походе детей «Врата рая» («Bramy raju»).
[1] Цит. по: Potkaj T., Czyściec mój będzie trwał długo // Tygodnik Powszechny, № 16 (2806), 2003.
[2] Andrzejewski J. Kartki z dziennika lektury // Nowa Kultura. 1955, № 45.
[3] По свидетельству современников, в последующие годы Анджеевский изымает из библиотек и скупает в книжных магазинах сборник «Партия и творчество писателя» и уничтожает значительную часть тиража книги. (См: Мусиенко С., Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (cб. Статей). М., 2000. С.31).
[4] Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т.1. С. 16.
[5] Из-за многочисленности осужденных инквизиторам пришлось придумать особый эшафот — «квемадеро», который был сложен из камня наподобие печи. Туда вводили сразу нескольких приговоренных и сжигали. Возможно, именно это дьявольское изобретение послужило позже прототипом гитлеровских газовых камер.
[6] См. о Торквемаде и инквицзиции подробнее: Лозинский С. Г. Святая инквизиция, М., 1927., Величкина В. Очерки истории инквизиции, М., 1906.
[7] Мицкевич А. Дзяды. Часть III // Избранные произведения. Т.2. М., 1955. С. 115 (пер. с польского Л. Мартынова).
[8] Британишский В. Указ.соч. С. 6.
[9] В. Британишский справедливо отмечает, что «примат поэзии в сознании Анджеевского — свидетельство приверженности его к традиции польского романтизма, оставившего после себя культ „поэтов-пропроков“». (Британишский В., Указ.соч. С.6). Многие названия книг Анджеевского восходят именно к строкам мировой и национальной поэзии. Так было в романе «Пепел и алмаз», название которого — микроцитата из двух строф К. Норвида, взятых эпиграфом к книге, так будет в романе «Идет, скачет по горам», заглавие которого восходит к стиху «Песни Песней», и в повести «Никто», цитирующей гомеровскую «Одиссею».
[10] Detka J. Przemiany poetyki w prozie Jerzego Andrzejewskiego. Kielce, 1995. S.237.
[11] Анджеевский Е. Мрак покрывает землю // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т.2. С. 7. (перевод К. Старосельской). Далее цитаты приводятся по этому изданию, страница указывается в тексте работы.
[12] Błoński J. Portert artysty w latach wielkiej zmiany // Odmarsz. Kraków, 1978. S.251.
[13] Хорев В. А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после второй мировой войны (коллективн. работа под. ред. Шерлаимовой С. А., Хорева В. А. (ответств. ред.), Ильиной Г. Я.). М., 1995. Т. 1. С. 133.
[14] Wałas T. Zwierciadła Jerzego Andrzejewskiego // Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (pod red. Farona B.). Warszawa, 1972. S. 33.
[15] Bocheński J. Rzeczy stare i nowe // Twórczość, 1973. № 11. S.76.
[16] См. об этом подробнее: Гладкова О. В. Притча // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001, с.807; Приходько Т. Ф. Парабола // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 267.
[17] История мировой литературы знает примеры использования жанра притчи в сугубо конспиративных целях. В 20-х годах ХХ века мистические анархисты — Солоневич, Карелин и люди, которые вокруг них группировались и были репрессированы к началу 30-х годов, создали своеобразный орден, литературно-политическую систему, которая существовала по всей карте тогдашнего СССР. Всё знание в этой системе передавалось через изустное рассказывание притч, которые имели некий тамплиеровский, рыцарский отблеск. Эти притчи было запрещено записывать. (См. об этом подробнее: Кукулин И. И говорил с ними… Три интервью о возрождении жанра притчи в современной литературе. www.vavilon.ru, 14.04.2005).
[18] Несмотря на то, что сюжет романа, безусловно, имеет в первую очередь ярко выраженный антисталинский пафос (Анджеевский был потрясен фактами, обнародованными Хрущевым после смерти вождя на ХХ съезде ЦК КПСС, буквально «перевернувшими» его творческую биографию), нельзя отрицать и того, что огромное влияние на формирование концепции романа оказал опыт столкновения с другой тоталитарной системой — фашизмом. Говоря о поколении Анджеевского, критик Е. Лисовский в одном из своих интервью замечает: «Молодым кажется, что самым большим моральным потрясением польских писателей после войны был сталинизм. А вот и нет. Это был поверхностный опыт. Самым главным жизненным опытом для поколения Анджеевского была война, оккупация и Освенцим». (Lisowski J. Wywiad // Zdanie, 1986, № 7/8).
[19] Британишский В. Указ.соч. С. 17.
[20] Британишский В. Указ.соч. С. 16.
[21] Wałas T. Op.cit. Похожую мысль высказывает и писатель Алексей Цветков-младший, размышляя о жанре притчи и о приверженности к нему современных авторов: «…помимо иносказания, попытки герметизации, сакрализации, конспирации определенных знаний, существует такая же проблема на личном уровне: далеко не всегда автор может признаться себе в некоторых вещах. Почти всегда не может. И он использует этот ход, сознательно или, чаще, бессознательно. Он создает притчу, чтобы объясниться с самим собой и сделать себе известными некоторые вещи, которые он прямо высказать не может. Не в силу своей языковой несостоятельности, а в силу глубинных, психоаналитических в некотором смысле, причин». (Кукулин И. И говорил с ними…).
[22] Ведина В. Послевоенная польская проза. Проблематика и поэтика. Киев, 1991. С. 276.
[23] Тюпа В. И. Три стратегии нарративого дискурса. www.nsu.ru, 20.05.2005.
[24] Кундера М. Нарушенные завещания. СПб., 2004. С. 234.
[25] Cм. об этом подробнее: Synoradzka A. Andrzejewski. Kraków, 1997. S.126.
[26] Ведина В. Указ.соч. С. 277.
[27] Цит. по: Британишский В. Указ.соч. С. 6.
[28] Fryde L. Z duchu Bernanosa // Pion. 1938, № 3.
[29] Британишский В. Указ.соч. С. 14.
[30] Кундера М. Указ. соч. С. 217.
[31] Британишский В. Указ.соч. С. 17.
[32] Мусиенко С. Указ.соч. С. 32.
[33] Ibidem.
[34] Kijowski A. Diabli nadali czyli o nowej powieści Andrzejewskiego // Twórczość, 1957, № 10−11.
[35] Ibidem.
[36] Тюпа В. И. Указ.соч.
[37] В параболе эта редукция менее заметна. С точки зрения внутренней структуры, «парабола — иносказательный образ, тяготеющий к символу, многозначному иносказанию. Однако символический иносказательный план не подавляет в нем предметного, ситуативного, а остается изоморфным ему, взаимосоотнесенным с ним» (Приходько Т. Ф. Парабола // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987, с.267).
[38] Тюпа В. И. Указ.соч.
[39] Бахтин М. М., Формы времени и хронотопа в романе // Бахтин ММ. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 266.
[40] Эту композиционную особенность романа «нащупал» в своей рецензии Анджей Кийовский, заметив, что жизнь Дьего «отчетливо делится на два этапа». Однако для польского критика такая сюжетная условность стала поводом для, в целом, негативной оценки романа. (Kijowski A. Op.cit. S.150).
[41] Байздренко А. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола //Вестник Московского университета. Серия «Филология». 1997, № 1. С. 94.