Анна алексеевна Савельева
Глава 4
МИКРОРОМАН «ВРАТА РАЯ» КАК РОМАН-ПАРАБОЛА
Идею использовать сведения о крестовом походе детей в качестве материала для новой книги подсказал Анджеевскому режиссер Анджей Вайда, с которым писателя после совместной работы над экранизацией «Пепла и алмаза» связывала тесная дружба.
В одном из своих интервью, опубликованных на официальном сайте Анджея Вайды, знаменитый режиссер вспоминает: «Это я пришел к Ежи Анджеевскому с идеей детского крестового похода как сюжета для нашего следующего фильма. Он, как всегда, принял мое предложение с энтузиазмом» [1].
Сразу же после разговора с Вайдой писатель начал собирать материалы для новой книги. 26 ноября 1957 года Анджеевский записал в своем дневнике: «Вайда сказал, что хотел бы когда-нибудь сделать фильм по мотивам крестового похода детей. Придется мне в ближайшие дни посмотреть, какие есть материалы, касающиеся этих событий. В энциклопедии Лярусса я нашел краткую заметку, что поход детей имел место в первые годы XIII века, организовал его какой-то французский пастух из Клуа близ Шартра, а в Германии некий Николас из Кельна. Часть детей утонула, часть попала в неволю к мусульманам. Какой захватывающий сюжет!» [2].
Крестовый поход, традиционно называемый детским [3], по всей видимости, имел место в 1213 году. Хронисты XIII века редко удостаивали вниманием эту мрачную страницу истории средневековья. Как подсчитали современные историки, таинственный поход упоминается в хрониках ХIII века около 50 раз, однако многое в этих сообщениях скорее напоминает легенду.
Самое детальное повествование о детском крестовом походе содержится в хронике цистерцианского монаха Альбрика де Труафонтэн (аббатство Шалона на Марне), но, как установили исследователи, это повествование является одновременно и наименее достоверным.
Единственным основательным трудом об истории детского крестового похода по сей день остается книга Джорджа Забриски Грея, изданная в 1870 году и переизданная сто лет спустя [4]. Американский католический священник польского происхождения буквально по крохам собирал сведения о крестовом походе детей, рассеянные в хрониках XIII века, и создал труд, достаточно подробно и достоверно воссоздающий причины трагедии и ход событий.
Около 1200 года неподалеку от Орлеана в деревушке Клуа родился крестьянский мальчик по имени Стефан (в некоторых источниках — Жак или Этьенн). Как и все крестьянские дети, юный Стефан с детских лет трудился по мере сил. В 12 лет он был пастухом и пас скот в окрестностях родной деревни. Здесь теплым майским (или июньским) днем 1212 года (или годом позже) он повстречал странствующего монаха-пилигрима, который попросил у него немного хлеба и в знак благодарности за скромное угощение поведал ему о своем паломническом странствии в Палестину и о том, как томится одинокий гроб Господень в руках нечестивых турков.
Уже позже на улицах и площадях перед многотысячной толпой мальчик будет с воодушевлением рассказывать, как странствующий монах вдруг прервал свой рассказ и признался, что он не монах вовсе, а сам Иисус Христос. Сын Господень повелел изумленному подростку стать во главе небывалого крестового похода — детского, ибо страшнее мечей и доспехов будет для мусульман безгрешность христианских детей и сила слова божьего в их невинных устах.
Идея юного проповедника, подкрепленная экзальтацией и красноречием мальчика, нашла немедленный отклик в умах его современников. Тысячи французских и немецких детей стали собираться в далекий Иерусалим, чтобы освободить Гроб Господень из рук неверных магометан. За четверть века до этого знаменитый султан Салах-ад-дин нанес поражение крестоносцам и очистил от них Иерусалим. Лучшие рыцари Западного мира пытались вернуть утраченную святыню; на пути к Иерусалиму погиб Фридрих Барбаросаса, не добился победы и Ричард Львиное Сердце (легче оказалось взять православный Константинополь, чем мусульманский Иерусалим). Стоит ли удивляться, что предложение молодого пастушка из Клуа сокрушить врагов благочестием детей было встречено с подлинным религиозным рвением?
За короткое время Стефану удалось собрать под свои знамена без малого 30 тысяч детей, их ряды пополнились крестьянами, ремесленниками, священниками и даже преступниками. Паломники пересекли почти всю Францию и достигли Марселя, где, стоя на берегу моря, с благоговением ожидали, что волны расступятся и пропустят их в Иерусалим.
Чудо не произошло. Предприимчивые купцы погрузили юных паломников на корабли, часть из которых потерпела крушение и пошла ко дну у берегов Сардинии вместе с маленькими крестоносцами на борту, другие корабли добрались до Алжира, где выжившие дети попали на невольничьи рынки и были проданы в мусульманское рабство.
Одна из самых таинственных и страшных трагедий средневековой Европы быстро стерлась из народной памяти. Молва почтила 30 тысяч загубленных жизней лишь короткой издевательской эпиграммой:
В одном из своих интервью, опубликованных на официальном сайте Анджея Вайды, знаменитый режиссер вспоминает: «Это я пришел к Ежи Анджеевскому с идеей детского крестового похода как сюжета для нашего следующего фильма. Он, как всегда, принял мое предложение с энтузиазмом» [1].
Сразу же после разговора с Вайдой писатель начал собирать материалы для новой книги. 26 ноября 1957 года Анджеевский записал в своем дневнике: «Вайда сказал, что хотел бы когда-нибудь сделать фильм по мотивам крестового похода детей. Придется мне в ближайшие дни посмотреть, какие есть материалы, касающиеся этих событий. В энциклопедии Лярусса я нашел краткую заметку, что поход детей имел место в первые годы XIII века, организовал его какой-то французский пастух из Клуа близ Шартра, а в Германии некий Николас из Кельна. Часть детей утонула, часть попала в неволю к мусульманам. Какой захватывающий сюжет!» [2].
Крестовый поход, традиционно называемый детским [3], по всей видимости, имел место в 1213 году. Хронисты XIII века редко удостаивали вниманием эту мрачную страницу истории средневековья. Как подсчитали современные историки, таинственный поход упоминается в хрониках ХIII века около 50 раз, однако многое в этих сообщениях скорее напоминает легенду.
Самое детальное повествование о детском крестовом походе содержится в хронике цистерцианского монаха Альбрика де Труафонтэн (аббатство Шалона на Марне), но, как установили исследователи, это повествование является одновременно и наименее достоверным.
Единственным основательным трудом об истории детского крестового похода по сей день остается книга Джорджа Забриски Грея, изданная в 1870 году и переизданная сто лет спустя [4]. Американский католический священник польского происхождения буквально по крохам собирал сведения о крестовом походе детей, рассеянные в хрониках XIII века, и создал труд, достаточно подробно и достоверно воссоздающий причины трагедии и ход событий.
Около 1200 года неподалеку от Орлеана в деревушке Клуа родился крестьянский мальчик по имени Стефан (в некоторых источниках — Жак или Этьенн). Как и все крестьянские дети, юный Стефан с детских лет трудился по мере сил. В 12 лет он был пастухом и пас скот в окрестностях родной деревни. Здесь теплым майским (или июньским) днем 1212 года (или годом позже) он повстречал странствующего монаха-пилигрима, который попросил у него немного хлеба и в знак благодарности за скромное угощение поведал ему о своем паломническом странствии в Палестину и о том, как томится одинокий гроб Господень в руках нечестивых турков.
Уже позже на улицах и площадях перед многотысячной толпой мальчик будет с воодушевлением рассказывать, как странствующий монах вдруг прервал свой рассказ и признался, что он не монах вовсе, а сам Иисус Христос. Сын Господень повелел изумленному подростку стать во главе небывалого крестового похода — детского, ибо страшнее мечей и доспехов будет для мусульман безгрешность христианских детей и сила слова божьего в их невинных устах.
Идея юного проповедника, подкрепленная экзальтацией и красноречием мальчика, нашла немедленный отклик в умах его современников. Тысячи французских и немецких детей стали собираться в далекий Иерусалим, чтобы освободить Гроб Господень из рук неверных магометан. За четверть века до этого знаменитый султан Салах-ад-дин нанес поражение крестоносцам и очистил от них Иерусалим. Лучшие рыцари Западного мира пытались вернуть утраченную святыню; на пути к Иерусалиму погиб Фридрих Барбаросаса, не добился победы и Ричард Львиное Сердце (легче оказалось взять православный Константинополь, чем мусульманский Иерусалим). Стоит ли удивляться, что предложение молодого пастушка из Клуа сокрушить врагов благочестием детей было встречено с подлинным религиозным рвением?
За короткое время Стефану удалось собрать под свои знамена без малого 30 тысяч детей, их ряды пополнились крестьянами, ремесленниками, священниками и даже преступниками. Паломники пересекли почти всю Францию и достигли Марселя, где, стоя на берегу моря, с благоговением ожидали, что волны расступятся и пропустят их в Иерусалим.
Чудо не произошло. Предприимчивые купцы погрузили юных паломников на корабли, часть из которых потерпела крушение и пошла ко дну у берегов Сардинии вместе с маленькими крестоносцами на борту, другие корабли добрались до Алжира, где выжившие дети попали на невольничьи рынки и были проданы в мусульманское рабство.
Одна из самых таинственных и страшных трагедий средневековой Европы быстро стерлась из народной памяти. Молва почтила 30 тысяч загубленных жизней лишь короткой издевательской эпиграммой:
“
На берег дурацкий
Ведет ум ребяцкий [5].
Ведет ум ребяцкий [5].
Позже трагические события тех лет обросли многочисленными домыслами и слухами, смешались с другими историями о крестовых походах и со временем превратились в легенду, ставшую основой ряда литературных текстов. Самый известный из них — небольшой рассказ немецкого прозаика Марселя Швоба «Крестовый поход детей», опубликованный в 1986 году (польский и русский переводы печатались в 1900-ых годах).
Драматическая история крестового похода детей воодушевила Анджеевского. Рассказ о бессмысленном героизме и бессмысленной гибели тысяч подростков давал неограниченные возможности для интерпретации. В подсказанном Вайдой сюжете, как по заказу переплетались все излюбленные темы писателя: религиозный фанатизм и юношеский максимализм, поиски истины и заблуждения толпы, вдохновение и отчаяние, страсть и смерть.
Анджеевский добавил к ним еще одну важную для себя тему — сексуальное (в духе фрейдизма) толкование поступков подростков, подводящее к идее о том, что «динамизм европейской культуры находится в тесной связи с ее подспудным сублимированным эротизмом» [6].
Несмотря на свой небольшой объем (текст «Врат рая» занимает всего около 90 печатных страниц), книга Анджеевского изобилует разнообразными аллюзиями и подтекстами и шокирует инновационными, если не сказать революционными, художественными решениями. Анджеевский оформляет текст как одно огромное предложение, бесконечную монотонную фразу без точек. Всего в книге две фразы, последняя «И они шли целую ночь» [7] завершает ее.
Все это вот уже не один десяток лет вынуждает критиков спорить о жанровой принадлежности «Врат рая» и дискутировать о месте книги в современной прозе.
Вопрос о жанре произведения до конца не решен. Как польские, так и иностранные исследователи раз за разом называют книгу Анджеевского то романом (powieść), то повестью или «большим рассказом» (przypowieść, duże opowiadanie), то используют мало проясняющие ситуацию метафорические определения: Г. Береза и З. Жабицкий называют «Врата рая» «рапсодией» [8], (вероятно, имея в виду не раз отмечавшуюся в критике музыкальность прозы Анджеевского), автор русского предисловия к книге В. Британишский считает, что «Врата рая» «вернее, пожалуй, назвать поэмой в прозе"[9].
Нам представляется, что с точки зрения жанровой идентификации произведения Анджеевского наиболее удачным является термин микророман.
Микророман или короткая романная форма (американское литературоведение нередко использует парадоксальный термин long short story — «длинная короткая история») отличается ото всех трех традиционных и весьма гибких прозаических жанров: рассказ, повесть, роман (в западном литературоведении — short story, novella, novel, в Польше — opowiadanie, duże opowiadanie, powieść).
Рассуждая о микроромане, литератор и литературный критик Юрий Дружников в своей статье «Жанр для XXI века» пишет: «По содержанию микророман шире и социально глубже новеллы, хотя имеет ее черты. Отличен микророман и от повести. В таком миниатюрном романе присутствует, однако, вся та фабула, которую требует от романа традиционные западная и русская литературные школы. <…> В микроромане романный сюжет упакован в новеллическую оболочку. Макросодержание в микроформе (курсив — мой. А.С.). Если повесть — часть романа, как бы незаконченный или несостоявшийся роман, то микророман — роман законченный, состоявшийся, только короткий» [10].
Лаконизм или, говоря словами Ю. Дружникова, «компактность» [11] микроромана как нельзя лучше отвечает потребностям современной литературы поспевать за быстроменяющимся временем, аккумулировать энергию и потенциал «большого» романа при минимуме изобразительных средств и на минимальной печатной площади [12].
В творчестве Ежи Анджеевского тяготение именно к сжатой, максимально уплотненной повествовательной форме можно отметить уже на более ранних этапах. И «Пепел и алмаз», который, с жанровой точки зрения, безусловно, является настоящим «большим» романом, и «Мрак покрывает землю», который в польской критике нередко фигурирует как повесть, а в России воспринимается как полноценный роман, и даже «Месиво», разросшееся до огромного восьмисот страничного текста, сознательно лишенного твердых жанровых и стилевых границ, тяготеют к той композиционной и содержательной концентрации, которая характерна в первую очередь для микроромана. Но именно во «Вратах рая» Анджеевский в полной мере реализует ключевую идею микроромана как жанра: макросодержание в микроформе.
Условный сюжет, отсутствие описательности и лаконизм повествования, стилизованного под поэтику разных жанров христианской литературы, сочетаются в книге с глубиной и универсальностью смыслов, многозначностью символики, интеллектуальностью и экспрессией, достойной лучших образцов современной экзистенциалистской прозы.
В центре сюжета микроромана Анджеевского — судьба главного героя и вдохновителя крестового похода детей — Жака Найденыша, все чаще именуемого Жаком Прекрасным, а также его ближайших сподвижников — детей из Клуа, среди которых «был Алексей Мелиссен, единственный не из Клуа родом, была Бланш — дочь колесника, был Робер — сын мельника, была Мод — дочь кузнеца» (С.128).
Концентрический сюжет включает события, произошедшие в течение одних суток — когда после трех дней всеобщей исповеди подошла очередь исповедоваться детям из Клуа.
Один за другим все пять центральных персонажей микроромана, не замедляя движения толпы, подходят к единственному взрослому герою книги — старику-священнику, чтобы чистосердечно рассказать ему о своем прошлом и о тех мотивах, которые побудили их вступить на полный трудностей и лишений путь к сияющим иерусалимским вратам.
Сопоставляя детали и факты из признаний, размышлений, воспоминаний пятерых исповедующихся детей (многочисленные ретроспекции и интроспекции героев книги лишь изредка прерываются короткими авторскими ремарками, а также репликами и внутренними монологами священника), старый монах, а вместе с ним и читатель, раскрывает для себя всю правду о целях и смысле похода. И эта правда заставляет содрогнуться как исповедника, так и читателя.
Никто из организаторов и вдохновителей похода не верит (да и ни минуты не верил) в «официальную» миссию крестоносцев — освобождение Гроба Господня усилиями чистых и невинных христианских детей, «ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деяния» (С.126).
Не было ни божественного видения, ни гласа Господня, ни веры в свое предназначение, ни чистоты побуждений. Напротив — подростками движет грязная похоть, фанатизм, страх, отчаяние, либо злая воля других людей. Потрясенный священник пытается остановить «поход зла», но погибает под ногами детей, увлекаемых вперед призывом Алексея Мелиссена, и, умирая, все же благословляет их. А ослепленные фанатизмом дети продолжают движение к своей призрачной цели и к неминуемой гибели.
Повествование в книге отчетливо распадется на несколько сменяющих друг друга картин. Это позволяет критикам говорить о его практически кинематографическом построении [13]. Каждая картина имеет своего центрального персонажа (это либо священник, либо один из исповедующихся детей), и показывает события с одной избранной точки зрения.
Драматическая история крестового похода детей воодушевила Анджеевского. Рассказ о бессмысленном героизме и бессмысленной гибели тысяч подростков давал неограниченные возможности для интерпретации. В подсказанном Вайдой сюжете, как по заказу переплетались все излюбленные темы писателя: религиозный фанатизм и юношеский максимализм, поиски истины и заблуждения толпы, вдохновение и отчаяние, страсть и смерть.
Анджеевский добавил к ним еще одну важную для себя тему — сексуальное (в духе фрейдизма) толкование поступков подростков, подводящее к идее о том, что «динамизм европейской культуры находится в тесной связи с ее подспудным сублимированным эротизмом» [6].
Несмотря на свой небольшой объем (текст «Врат рая» занимает всего около 90 печатных страниц), книга Анджеевского изобилует разнообразными аллюзиями и подтекстами и шокирует инновационными, если не сказать революционными, художественными решениями. Анджеевский оформляет текст как одно огромное предложение, бесконечную монотонную фразу без точек. Всего в книге две фразы, последняя «И они шли целую ночь» [7] завершает ее.
Все это вот уже не один десяток лет вынуждает критиков спорить о жанровой принадлежности «Врат рая» и дискутировать о месте книги в современной прозе.
Вопрос о жанре произведения до конца не решен. Как польские, так и иностранные исследователи раз за разом называют книгу Анджеевского то романом (powieść), то повестью или «большим рассказом» (przypowieść, duże opowiadanie), то используют мало проясняющие ситуацию метафорические определения: Г. Береза и З. Жабицкий называют «Врата рая» «рапсодией» [8], (вероятно, имея в виду не раз отмечавшуюся в критике музыкальность прозы Анджеевского), автор русского предисловия к книге В. Британишский считает, что «Врата рая» «вернее, пожалуй, назвать поэмой в прозе"[9].
Нам представляется, что с точки зрения жанровой идентификации произведения Анджеевского наиболее удачным является термин микророман.
Микророман или короткая романная форма (американское литературоведение нередко использует парадоксальный термин long short story — «длинная короткая история») отличается ото всех трех традиционных и весьма гибких прозаических жанров: рассказ, повесть, роман (в западном литературоведении — short story, novella, novel, в Польше — opowiadanie, duże opowiadanie, powieść).
Рассуждая о микроромане, литератор и литературный критик Юрий Дружников в своей статье «Жанр для XXI века» пишет: «По содержанию микророман шире и социально глубже новеллы, хотя имеет ее черты. Отличен микророман и от повести. В таком миниатюрном романе присутствует, однако, вся та фабула, которую требует от романа традиционные западная и русская литературные школы. <…> В микроромане романный сюжет упакован в новеллическую оболочку. Макросодержание в микроформе (курсив — мой. А.С.). Если повесть — часть романа, как бы незаконченный или несостоявшийся роман, то микророман — роман законченный, состоявшийся, только короткий» [10].
Лаконизм или, говоря словами Ю. Дружникова, «компактность» [11] микроромана как нельзя лучше отвечает потребностям современной литературы поспевать за быстроменяющимся временем, аккумулировать энергию и потенциал «большого» романа при минимуме изобразительных средств и на минимальной печатной площади [12].
В творчестве Ежи Анджеевского тяготение именно к сжатой, максимально уплотненной повествовательной форме можно отметить уже на более ранних этапах. И «Пепел и алмаз», который, с жанровой точки зрения, безусловно, является настоящим «большим» романом, и «Мрак покрывает землю», который в польской критике нередко фигурирует как повесть, а в России воспринимается как полноценный роман, и даже «Месиво», разросшееся до огромного восьмисот страничного текста, сознательно лишенного твердых жанровых и стилевых границ, тяготеют к той композиционной и содержательной концентрации, которая характерна в первую очередь для микроромана. Но именно во «Вратах рая» Анджеевский в полной мере реализует ключевую идею микроромана как жанра: макросодержание в микроформе.
Условный сюжет, отсутствие описательности и лаконизм повествования, стилизованного под поэтику разных жанров христианской литературы, сочетаются в книге с глубиной и универсальностью смыслов, многозначностью символики, интеллектуальностью и экспрессией, достойной лучших образцов современной экзистенциалистской прозы.
В центре сюжета микроромана Анджеевского — судьба главного героя и вдохновителя крестового похода детей — Жака Найденыша, все чаще именуемого Жаком Прекрасным, а также его ближайших сподвижников — детей из Клуа, среди которых «был Алексей Мелиссен, единственный не из Клуа родом, была Бланш — дочь колесника, был Робер — сын мельника, была Мод — дочь кузнеца» (С.128).
Концентрический сюжет включает события, произошедшие в течение одних суток — когда после трех дней всеобщей исповеди подошла очередь исповедоваться детям из Клуа.
Один за другим все пять центральных персонажей микроромана, не замедляя движения толпы, подходят к единственному взрослому герою книги — старику-священнику, чтобы чистосердечно рассказать ему о своем прошлом и о тех мотивах, которые побудили их вступить на полный трудностей и лишений путь к сияющим иерусалимским вратам.
Сопоставляя детали и факты из признаний, размышлений, воспоминаний пятерых исповедующихся детей (многочисленные ретроспекции и интроспекции героев книги лишь изредка прерываются короткими авторскими ремарками, а также репликами и внутренними монологами священника), старый монах, а вместе с ним и читатель, раскрывает для себя всю правду о целях и смысле похода. И эта правда заставляет содрогнуться как исповедника, так и читателя.
Никто из организаторов и вдохновителей похода не верит (да и ни минуты не верил) в «официальную» миссию крестоносцев — освобождение Гроба Господня усилиями чистых и невинных христианских детей, «ибо скорее, нежели любая мощь на суше и на море, чистая вера и невинность детей величайшие могут сотворить деяния» (С.126).
Не было ни божественного видения, ни гласа Господня, ни веры в свое предназначение, ни чистоты побуждений. Напротив — подростками движет грязная похоть, фанатизм, страх, отчаяние, либо злая воля других людей. Потрясенный священник пытается остановить «поход зла», но погибает под ногами детей, увлекаемых вперед призывом Алексея Мелиссена, и, умирая, все же благословляет их. А ослепленные фанатизмом дети продолжают движение к своей призрачной цели и к неминуемой гибели.
Повествование в книге отчетливо распадется на несколько сменяющих друг друга картин. Это позволяет критикам говорить о его практически кинематографическом построении [13]. Каждая картина имеет своего центрального персонажа (это либо священник, либо один из исповедующихся детей), и показывает события с одной избранной точки зрения.
организация повествования в книге
Картина 1
Видение монаха, предвещающее гибель Алексея и Жака в пустыне.
Картина 2
Исповедь Мод
Картина 3
Исповедь Робера
Картина 4
Исповедь Бланш
Картина 5
Исповедь Алексея
Картина 6
Исповедь Жака
Картина 7
Отказ священника отпустить грехи Жаку. Гибель священника под ногами детей.
Продолжая аналогии с кинематографом, можно сказать, что повествование во «Вратах рая» имитирует одновременную съемку с нескольких стационарных камер, каждая из которых транслирует только те события, которые попадают в зону виденья ее объектива. Впоследствии все эти отрывочные сюжеты «монтируются» между собой, обрастают подробностями и необходимыми для понимания деталями, постепенно обнаруживая разветвленные внутренние взаимосвязи.
Попробуем восстановить события книги в их «реальной» временной последовательности.
Попробуем восстановить события книги в их «реальной» временной последовательности.
реальная хронология событий
1
Приблизительно 1204 год
Взятие Константинополя крестоносцами.
Гибель родителей Алексея Мелиссена от руки графа Людовика Вандомского.
Усыновление 8-летнего Алексея графом.
Гибель родителей Алексея Мелиссена от руки графа Людовика Вандомского.
Усыновление 8-летнего Алексея графом.
2
6 лет спустя
Алексей узнает, что его приемный отец граф Людовик — убийца его настоящих родителей.
Граф совращает Алексея.
Граф совращает Алексея.
3
весной два года спустя
(День свадьбы Агнессы – сестры Мод)
(День свадьбы Агнессы – сестры Мод)
Робер признается в любви Мод, Мод открывает ему, что любит Жака.
Бланш решает соблазнить Жака и приходит к нему в хижину. Жак прогоняет Бланш.
Граф Людовик знакомится с Жаком.
Алексей Мелиссен ищет графа в деревне, где впервые встречает Жака.
Жак лжет Алексею, что граф покинул деревню.
Расстроенная Бланш встречает отчаявшегося Алексея, и они вместе проводят ночь.
Граф Людовик ночует в хижине Жака и внушает ему идею крестового похода детей.
Бланш решает соблазнить Жака и приходит к нему в хижину. Жак прогоняет Бланш.
Граф Людовик знакомится с Жаком.
Алексей Мелиссен ищет графа в деревне, где впервые встречает Жака.
Жак лжет Алексею, что граф покинул деревню.
Расстроенная Бланш встречает отчаявшегося Алексея, и они вместе проводят ночь.
Граф Людовик ночует в хижине Жака и внушает ему идею крестового похода детей.
4
утро следующего дня
Граф Людовик застает спящих вместе Алексея и Бланш и сечет их арапником.
Последние объятия Алексея и графа.
Гибель графа Людовика в волнах Луары. Алексей не приходит к нему на помощь.
Последние объятия Алексея и графа.
Гибель графа Людовика в волнах Луары. Алексей не приходит к нему на помощь.
5
через некоторое время
Алексей приезжает к хижине Жака и рассказывает ему, что граф Людовик мертв.
Жак обвиняет Алексея в гибели графа.
Алексей второй раз встречает Бланш и увозит ее в Шартр.
Жак обвиняет Алексея в гибели графа.
Алексей второй раз встречает Бланш и увозит ее в Шартр.
6
утро того же дня
Первая проповедь Жака в Клуа, призыв к началу похода.
Жители деревни не воспринимают Жака всерьез, но влюбленная Мод присоединяется к Жаку. Робер следует за Мод. За ними идут другие местные дети.
Жители деревни не воспринимают Жака всерьез, но влюбленная Мод присоединяется к Жаку. Робер следует за Мод. За ними идут другие местные дети.
7
через два дня после начала похода
Алексей и Бланш покидают Шартр и присоединяются к походу.
8
третий день всеобщей исповеди
Дети из Клуа исповедуются священнику.
9
вечером того же дня
Священник отказывается отпустить Жаку грехи. Обескураженный Жак призывает на помощь Алексея.
Священник пытается остановить поход.
Толпа детей, влекомая волей Алексея, затаптывает монаха в грязь.
Священник пытается остановить поход.
Толпа детей, влекомая волей Алексея, затаптывает монаха в грязь.
10
через некоторое время
Предначертанный финал похода (видение священника): Алексей и ослепший Жак погибают в пустыне.
Из приведенного выше «конспекта» видно, что все события книги сплетены в тугой узел трагическими случайностями и мистическими совпадениями, все герои связаны (если не сказать «повязаны») между собой пагубными страстями и низменным желаниями, а финал истории предопределен заранее и фаталистически неизбежен. Как пишет В. Ведина, «преступление рождает новое преступление, новые нелепости, новая ложь прикрывает старую, правда оказывается страшнее и несуразнее любой неправды — таков смысл повести» [14].
«Врата рая» — произведение сложное и многогранное. С первых строк писатель вынуждает своего читателя буквально «прорываться» сквозь текст. Заведомое усложнение синтаксиса за счет отказа от точек и логических пауз, частая смена рассказчика, показ одних и тех же событий с разных, иногда противоположных точек зрения, временная инверсия и другие инновационные приемы делают прозу Анджеевского одновременно трудной и увлекательной для чтения.
Как пишет знаменитый польский критик Влодзимеж Мачёнг, «роман необходимо прочитать два раза, чтобы понять все мистически связанные между собой закономерности. Вынудить читателя к этому — уже немало» [15].
Читателю Анджеевского недостаточно просто внимать авторским идеям, ему необходимо вслушиваться и всматриваться в текст, улавливать недоговоренности и полунамеки, сопоставляя прочитанное с литературной традицией, с широким контекстом мировой истории и культуры. Это не новая модель: так обычно читали детектив, но в современной литературе она становится все более продуктивной.
В русле тенденций современного неомифологизма Анджеевский использует апокрифический сюжет о крестовом походе детей как основу для развертывания непростой — моральной и философской — ситуации, метафорически соотносимой с современностью. Средневековая притча превращается во «Вратах рая» в насыщенную актуальными смыслами экзистенциальную параболу, развертыванию которой последовательно подчиняется вся архитектоника текста.
Интерпретировать параболу Анджеевского можно на нескольких срезах:
Критики не раз обращали внимание, что Анджеевскому безразлично историческое правдоподобие: вряд ли кто-то мог так мыслить, действовать и говорить в XIII веке. Как указывает Ян Блоньский, герои «Врат рая» «прекрасно знают теорию венского профессора (Зигмунда Фрейда — А.С.) и, в конце концов, скорее напоминают современных молодых людей, нежели средневековых пастушков» [16].
Положив в основу сюжета историческое событие XIII века, автор по существу абстрагируется от исторических примет конкретной эпохи, намеренно избегает описания бытовых подробностей, упоминания реальных имен и указания точных дат, допуская переплетение исторических и псевдоисторических событий, научных и автобиографических фактов, полунамеков и домыслов.
Разные исследователи отмечали, что Анджеевский оформляет свой микророман не как историческую повесть, а как средневековую фреску, в которой фигуры персонажей и место действия событий намечены яркими красками. Збигнев Жабицкий упоминает в связи с колористикой «Врат рая» полотна Яна ван Эйка и Роджера ван дер Вейдена[17]. А. Байздренко указывает, что зеленый, желтый и золотой цвета, доминирующие в видении Иерусалима, словно позаимствованы с фресок Джотто [18].
Образы своих героев писатель также очерчивает буквально несколькими яркими мазками, намеренно акцентируя одну и ту же характерную позу (поза Жака: «он стоял перед шалашом на холме, уперев руку в бедро» (С.131), или деталь костюма (серебристая туника, зеленые ноговицы и красный плащ Алексея Мелиссена).
Как и в классических библейских или восточных притчах, каждый герой параболы Анджеевского получает какую-либо одну доминирующую характеристику, которая определяет его поведение, речь и образ мыслей: простоватый, но верный Робер; скромная, невинная Мод; решительный, избалованный Алексей; своенравная Бланш; хрупкий и отрешенный Жак. По замечанию А. Байздренко, эти характеристики больше похожи на «едва намеченные контуры», позволяющие «лишь немного выделить» детей из Клуа из серой массы многотысячной толпы подростков [19].
Персонажи «Врат рая» хотя и не лишены узнаваемых внешних черт и психологической мотивировки поступков, их характеристики и описания по преимуществу — статичны. Создавая свою параболу, Анджеевский идет по пути обогащения конкретных образов универсальными смыслами за счет аналогий с мифологическими сюжетами и литературными архетипами: Жак — фольклорный «невинный пастушок»; граф Людовик — раскаявшийся грешный рыцарь или готический «рыцарь тьмы», убийца и распутник; Бланш — деревенская Мария-Магдалина.
В параболе Анджеевского символическое значение приобретают почти все художественные описания. Алый плащ Алексея Мелиссена становится в книге символом плотской страсти (в теории фрейдизма красный цвет олицетворяет сексуальность). На этом плаще Алексей предается порочной страсти с графом Людовиком и любовным утехам с Бланш, его же он заботливо набрасывает на плечи своему возлюбленному — Жаку, как символ избранности и лидерства последнего. «С плащом, будто пламя реющим на ветру, Алексей приблизился к Жаку, который шел перед ним, и набросил на его обнаженные плечи, а когда тот, повернув голову, передернул плечами, словно хотел сбросить плащ, сказал: до сих пор ты отказывался принять этот плащ, хотя тебе, как вожаку, скорее, нежели мне, пристало его носить…» (С.151).
Пурпурный цвет плаща Алексея вызывает ассоциации с другим знаменитым литературным плащом — «белым плащом с кровавым подбоем» Прокуратора Иудеи Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Благодаря этой неожиданной интертекстуальной параллели, история предательства и казни Христа, поведанная Булгаковым, пересекается с историей предательства и краха идеи освобождения Гроба Господня, рассказанной Анджеевским, словно лишний раз подтверждая мысль о бессмысленности истории, о неспособности человека изменить однажды заданный ход событий.
«Врата рая» — произведение сложное и многогранное. С первых строк писатель вынуждает своего читателя буквально «прорываться» сквозь текст. Заведомое усложнение синтаксиса за счет отказа от точек и логических пауз, частая смена рассказчика, показ одних и тех же событий с разных, иногда противоположных точек зрения, временная инверсия и другие инновационные приемы делают прозу Анджеевского одновременно трудной и увлекательной для чтения.
Как пишет знаменитый польский критик Влодзимеж Мачёнг, «роман необходимо прочитать два раза, чтобы понять все мистически связанные между собой закономерности. Вынудить читателя к этому — уже немало» [15].
Читателю Анджеевского недостаточно просто внимать авторским идеям, ему необходимо вслушиваться и всматриваться в текст, улавливать недоговоренности и полунамеки, сопоставляя прочитанное с литературной традицией, с широким контекстом мировой истории и культуры. Это не новая модель: так обычно читали детектив, но в современной литературе она становится все более продуктивной.
В русле тенденций современного неомифологизма Анджеевский использует апокрифический сюжет о крестовом походе детей как основу для развертывания непростой — моральной и философской — ситуации, метафорически соотносимой с современностью. Средневековая притча превращается во «Вратах рая» в насыщенную актуальными смыслами экзистенциальную параболу, развертыванию которой последовательно подчиняется вся архитектоника текста.
Интерпретировать параболу Анджеевского можно на нескольких срезах:
- Историческом
- Политическом
- Философском / экзистенциальном
- Религиозном / моральном
Критики не раз обращали внимание, что Анджеевскому безразлично историческое правдоподобие: вряд ли кто-то мог так мыслить, действовать и говорить в XIII веке. Как указывает Ян Блоньский, герои «Врат рая» «прекрасно знают теорию венского профессора (Зигмунда Фрейда — А.С.) и, в конце концов, скорее напоминают современных молодых людей, нежели средневековых пастушков» [16].
Положив в основу сюжета историческое событие XIII века, автор по существу абстрагируется от исторических примет конкретной эпохи, намеренно избегает описания бытовых подробностей, упоминания реальных имен и указания точных дат, допуская переплетение исторических и псевдоисторических событий, научных и автобиографических фактов, полунамеков и домыслов.
Разные исследователи отмечали, что Анджеевский оформляет свой микророман не как историческую повесть, а как средневековую фреску, в которой фигуры персонажей и место действия событий намечены яркими красками. Збигнев Жабицкий упоминает в связи с колористикой «Врат рая» полотна Яна ван Эйка и Роджера ван дер Вейдена[17]. А. Байздренко указывает, что зеленый, желтый и золотой цвета, доминирующие в видении Иерусалима, словно позаимствованы с фресок Джотто [18].
Образы своих героев писатель также очерчивает буквально несколькими яркими мазками, намеренно акцентируя одну и ту же характерную позу (поза Жака: «он стоял перед шалашом на холме, уперев руку в бедро» (С.131), или деталь костюма (серебристая туника, зеленые ноговицы и красный плащ Алексея Мелиссена).
Как и в классических библейских или восточных притчах, каждый герой параболы Анджеевского получает какую-либо одну доминирующую характеристику, которая определяет его поведение, речь и образ мыслей: простоватый, но верный Робер; скромная, невинная Мод; решительный, избалованный Алексей; своенравная Бланш; хрупкий и отрешенный Жак. По замечанию А. Байздренко, эти характеристики больше похожи на «едва намеченные контуры», позволяющие «лишь немного выделить» детей из Клуа из серой массы многотысячной толпы подростков [19].
Персонажи «Врат рая» хотя и не лишены узнаваемых внешних черт и психологической мотивировки поступков, их характеристики и описания по преимуществу — статичны. Создавая свою параболу, Анджеевский идет по пути обогащения конкретных образов универсальными смыслами за счет аналогий с мифологическими сюжетами и литературными архетипами: Жак — фольклорный «невинный пастушок»; граф Людовик — раскаявшийся грешный рыцарь или готический «рыцарь тьмы», убийца и распутник; Бланш — деревенская Мария-Магдалина.
В параболе Анджеевского символическое значение приобретают почти все художественные описания. Алый плащ Алексея Мелиссена становится в книге символом плотской страсти (в теории фрейдизма красный цвет олицетворяет сексуальность). На этом плаще Алексей предается порочной страсти с графом Людовиком и любовным утехам с Бланш, его же он заботливо набрасывает на плечи своему возлюбленному — Жаку, как символ избранности и лидерства последнего. «С плащом, будто пламя реющим на ветру, Алексей приблизился к Жаку, который шел перед ним, и набросил на его обнаженные плечи, а когда тот, повернув голову, передернул плечами, словно хотел сбросить плащ, сказал: до сих пор ты отказывался принять этот плащ, хотя тебе, как вожаку, скорее, нежели мне, пристало его носить…» (С.151).
Пурпурный цвет плаща Алексея вызывает ассоциации с другим знаменитым литературным плащом — «белым плащом с кровавым подбоем» Прокуратора Иудеи Понтия Пилата в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Благодаря этой неожиданной интертекстуальной параллели, история предательства и казни Христа, поведанная Булгаковым, пересекается с историей предательства и краха идеи освобождения Гроба Господня, рассказанной Анджеевским, словно лишний раз подтверждая мысль о бессмысленности истории, о неспособности человека изменить однажды заданный ход событий.
Кадр из фильма «Врата рая» (реж. А. Вайда, 1968)
фото: imdb.com
фото: imdb.com
Символом фаталистического движения к гибели становятся во «Вратах рая» ступни священника, тяжело ступающие по земле, упоминание о которых рефреном проходит через весь роман (Сс.130, 133, 135, 143).
Чем полнее открывается монаху подлинная картина событий похода, тем мучительнее давит на него тяжесть чужих грехов и тем труднее дается каждый новый шаг. «Мод продолжала идти, потупясь, и ей показалось, что босым и отекшим стопам идущего рядом старого человека все трудней и трудней ступать по земле, что, соприкасаясь с землей, они задерживаются на ней дольше, чем прежде, словно это приносит необходимое им облегченье» (С.133).
Отчетливую символическую функцию выполняют в параболе Анджеевского и описания природы. Польская исследовательница Е. Семиньская подмечает, что практически каждая сюжетная картина во «Вратах рая» имеет свое соответствие среди картин природы, а точнее — среди описаний весенней грозы, пронизывающих весь роман. В книге как бы разыгрывается параллельный сюжет — погодный, «небесный» [20].
«Подняв в смятенье глаза, она увидела впереди и вокруг необъятное небо, по всему горизонту затягивающееся тяжелыми тучами, под небесным сводом, неожиданно вырвавшаяся из плена недвижных стен пущи, широко раскинулась плоская равнина, придавленная грозной тенью грозовых туч, Бланш увидела короткую торопливую вспышку молнии, пронзившей застылую громаду туч, а внизу зеленые озерца и одинокие деревья, ее окатило волной воздуха, и он показался ей легче и вольнее, чем воздух, которым она дышала до сих пор, дорога сбегала вниз, туда, где посреди плоской равнины недвижно лежали зеленые озерца и из серой неподвижно земли вырастали одинокие деревья, опять нетерпеливая молния вклинилась между клубящихся облаков, черная воронья стая, сорвавшись с крайних деревьев на опушке леса, черною тучею, низко над землей, летела к зеленым озерцам, далекий гром прокатился где-то вдалеке» (С.148).
По мнению Семиньской, картинки природы, то яркие, то мрачные и тревожные, превращаются во «Вратах рая» в своеобразные декорации для той или иной сюжетной сцены, например, для исповеди одного из персонажей [21].
Как и раньше в романах «Лад сердца» и «Мрак покрывает землю», Анджеевский активно использует во «Вратах рая» символически наполненные образы грозы, мрака, грома, бушующей природной стихии. Явления природы, не подвластные ни воле человека, ни уму, лишний раз напоминают, что в мире есть силы, гораздо более древние, мощные и неподкупные, чем те, с которыми людям приходится иметь дело каждый день. Гроза, особенно ночная гроза, традиционно олицетворяет в романах Анджеевского дихотомию высших сил: кару Господню, ниспосланную людям за их грехи, и происки Дьявола, бесчинствующего как в душах героев, так и на всей грешной земле.
«Внезапно ветер унялся, и на мгновенье, краткое, как вздох, воцарилась тишина, тишина, под властью которой в то мгновенье, краткое, как вздох, всему сущему, казалось, пришел конец, казалось, и солнце остановилось, и небо, и звезды, и смертная их окоченелость лишили движенья и звука всю прочую жизнь на земле, но тут хлынул проливной дождь, опять засверкали молнии, тяжелые раскаты грома, заглушаемые шумом ливня, гремели, пробиваясь сквозь этот шум, Алексей шел, расправив плечи, не замечая дождя, опять настороженный и внутренне напряженный, даже не поглядев, он миновал Бланш, которая брела, спотыкаясь, словно слепая, беззащитная и беспомощная под неукротимым грозовым ливнем» (С.151).
Ян Блоньский пишет о «Вратах рая»: «Все разыгрывается в климате кошмара и своеобразного безумия, при блеске молний <…> Ночь олицетворяет царство греха, поход — жизненный путь, явной целью которого является спасение, а подлинной — муки страсти» [22].
Насыщая пейзаж своей параболы универсальными деталями-символами (гроза, дорога, вороньи стаи, гром, туман), Анджеевский подчеркивает вневременный и внетерриториальный характер событий книги: они могли бы происходить (и, вполне вероятно, происходили) не только в средневековой Франции, но и в любое другое время в любой другой стране.
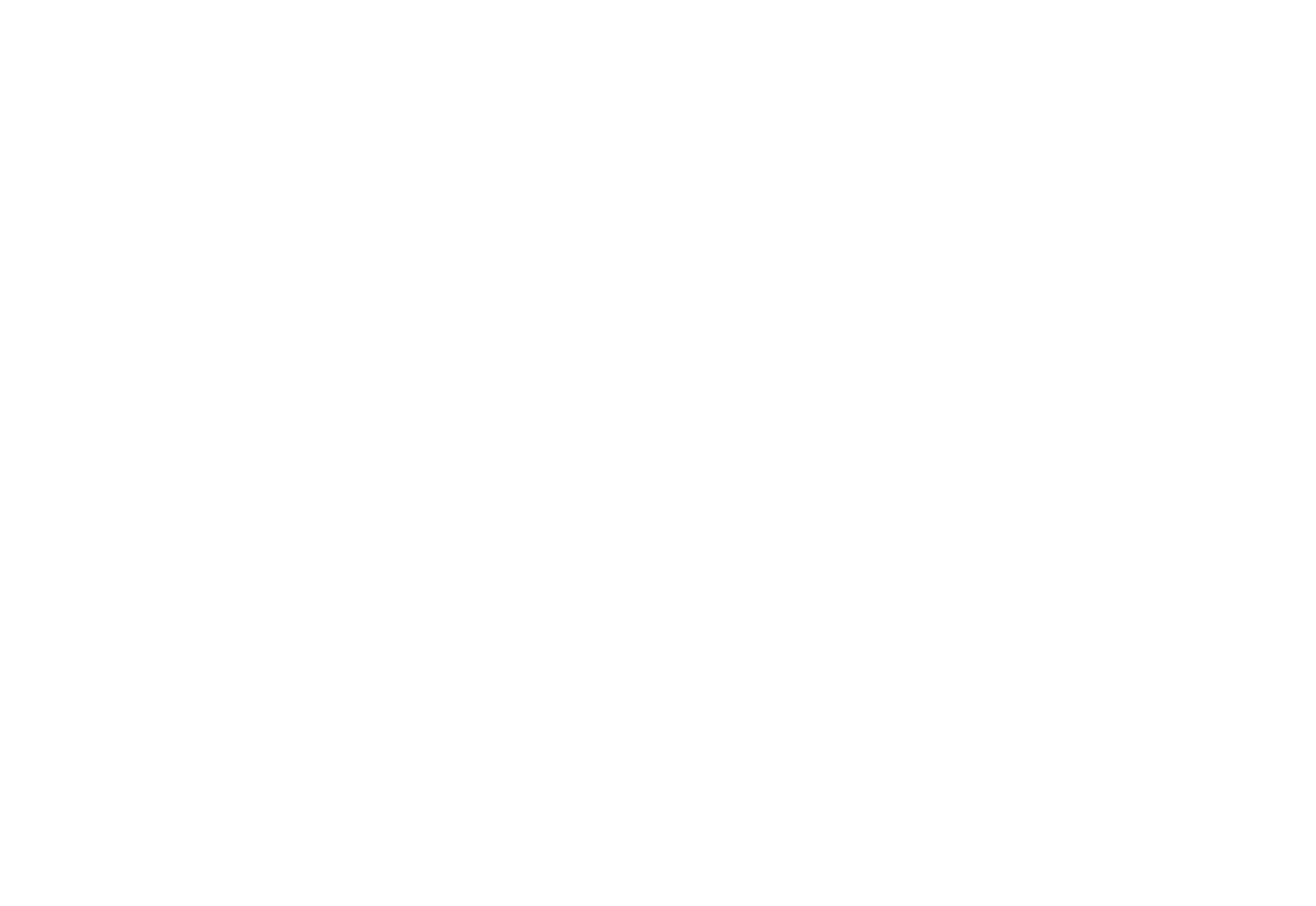
Эскизы костюмов к фильму «Врата рая» (реж. А. Вайда, 1968)
фото: imdb.com
фото: imdb.com
Снимая по «Вратам рая» фильм, Анджей Вайда перенес сюжет книги в Польшу (герои получили польские имена), а декорациями для съемок послужила пустынная местность в Югославии. Как вспоминает сам Вайда, «гористый, каменистый пейзаж определил характер всего фильма, создавая на экране впечатление, что неделями движущийся поход на самом деле стоит на месте» [23]. Снятый в 1967 году, фильм получился больше политический, нежели исторический или религиозный [24].
Политический подтекст «Врат рая» был очевиден и для большинства читателей самого микроромана. По словам С. Мусиенко, во «Вратах рая» «исторический костюм служит разоблачению фальши, скрытой под покровом благородной миссии» [25]. История похода к мистическим «вратам рая» прочитывалась современниками Анджеевского как история стремления к коммунистическому «светлому будущему», а пессимистический финал книги — как свидетельство недостижимости подобной цели.
Если в романе «Мрак покрывает землю» в центре внимания Анджеевского был путь приобщения честного человека к порочной идее его последующего нравственного падения, то во «Вратах рая» писателю удалось создать универсальную модель зарождения и искажения самой Идеи.
На примере поступков горстки средневековых подростков Анджеевский наглядно показал, как великая и прекрасная цель на поверку оказывается лишь предлогом для достижения чьих-то собственнических и нередко порочных интересов. Как за спинами фанатично настроенных публичных лидеров незаметно ведут свою темную игру могущественные «серые кардиналы». Как под страхом разоблачения обрастают предательством и ложью любые самые лучшие, самые высокие побуждения. Как команда воодушевленных единомышленников превращается в неуправляемую, тупо следующую приказам толпу. Как фанатизм одних, корысть других и глупость третьих неминуемо приводят к краху самой идеи и гибели ее сторонников — сотен, а нередко сотен тысяч людей.
С.Мусиенко пишет: «Парабола Анджеевского не ограничивается только развенчанием ложной идеи, свойственной эпохе сталинизма. Ее роль более значима: писатель стремится придать сюжету универсальный, вневременный характер. Любое политическое одурманивание людей, по Анджеевскому, — это путь в темноту"[26].
Во «Вратах рая» писатель продолжил ту исповедальную, покаянческую стилистику, начало которой было положено в романе «Мрак покрывает землю». Желание «рассчитаться» с прошлыми заблуждениями и ошибками угадывается во «Вратах рая» не только в выборе темы, но и в способе ее раскрытия.
Дети — герои Анджеевского — исповедуются старику-священнику в своих далеко не детских грехах, а вместе с ними исповедуется, кается, признается в своих недавних ошибках и безличный рассказчик, и сам автор. Охваченный желанием высказаться, снять грех с души, выплеснуть в словесном потоке наружу все то, что наболело, он забывает про точки и паузы, нарушает правила пунктуации, перескакивает с одной мысли на другую. Как пишет Я. Блоньский, «пропуская точки, он (повествователь — А.С.) переламывает собственную внутреннюю цензуру» [27].
Синтаксис во «Вратах рая», как и во всей поздней прозе Анджеевского, перестает быть элементарным способом артикуляции означаемых. Оформляя текст своего микроромана как одну бесконечную фразу без точек, писатель не только ломает веками устоявшиеся читательские стереотипы, но и делает пунктуацию самостоятельным смыслообразующим элементом текста.
Отказ от точек был программным решением для Анджеевского. Ксения Старосельская, осуществившая блестящий перевод «Врат рая» на русский язык, в одном из своих интервью вспоминает: «Я переводила повесть замечательного писателя Ежи Анджеевского „Врата рая“. В этой повести всего 2 фразы. Вторая последняя такая: „И они шли целую ночь“. Все остальные 4 листа занимает первая. Я довольна этой работой: вот здесь меня подхватила какая-то правильная волна и понесла, не давая перевести дух, что и требовалось. Потом, когда работа была уже давно сделана, мне рассказали, что в Польше в Литературном музее хранится рукопись, где в тексте фразы разделены… точками. Потом автор их убрал. А я, переводя, старалась ни в коем случае никаких точек — мысленно — не ставить» [28].
Отказываясь от традиционных правил пунктуации, Анджеевский решает во «Вратах рая» сразу несколько художественных задач:
В философии постструктурализма такая расслаивающаяся, саморепродуцирующая структура получила название ризома.
Термин «ризома» был введен в современную философию и науку о литературе в 1976 году французскими учеными Жилем Делезом и Феликсом Гваттари в их работе «Ризома», предварившей появление главного совместного труда французских философов — «Капитализм и шизофрения», вышедшего под названием «Тысяча поверхностей» (1980).
В дословном понимании ризома (фр. rhizome — корневище) — это специфическая корневая система наподобие грибницы, в которой отсутствует центральный стержневой корень, но есть множество хаотически переплетающихся, периодически отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии побегов. По мнению Делеза и Гваттари, такая «пучкообразная» структура наиболее соответствует образу современного мира, который «потерял свой стержень» [29].
Французские философы (в духе постмодернистского отказа от логоцентризма и процессуальности) противопоставили ризому любым видам корневой организации, т. е. всем замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую ориентацию.
Ризома интерпретируется в качестве радикально отличного от корня — «клубня» или «луковицы» — как потенциальной бесконечности, которая может развиваться куда угодно и принимать любые конфигурации, т.к. ризома абсолютно нелинейна.
Ризома может быть прервана в любом месте, но она возобновляется, следуя той или иной своей линии (принцип неозначающего разрыва). Любое место ризомы может и должно быть присоединено к любому другому ее месту (принципы сцепления и гетерогенности). Ризома чужда всякой генетической оси в качестве глубинной структуры (принцип картографии и декалькомании). Ризома не позволяет привести себя ни к единству, ни к множеству (принцип множественности — конфинальности).
Говоря словами Делеза и Гваттари, «речь идет о модели, которая продолжает формироваться и углубляться в процессе, который развивается, совершенствуется, возобновляется» [30].
«Врата рая» — один из первых и, вероятно, наиболее ярких примеров текста-ризомы в современной европейской литературе [31].
Сами Делез и Гваттари упоминают микророман Анджеевского в числе «редких и великих успехов» [32] номадического или ризоматического письма.
Для французских философов монологи во «Вратах рая» — это монологи кочевников, номадов, которые движутся не для того, чтобы добраться до конечной цели — иерусалимских врат, а просто — чтобы не стоять на месте. Их бессмысленному, хаотическому движению вторит движение повествования: текст романа представляет собой скорее сеть, нежели поток значений, где одни и те же фразы возвращаются в разных местах, наделенные разными смыслами.
«Книга Анджеевского „Врата рая“ — это книга, состоящая из одной непрерывной фразы: поток детей, непрерывное шарканье ног при ходьбе, протяженность, поспешность, семиотический поток всех детских признаний, с которыми они приходят к старому монаху, идущему во главе процессии, поток желания, и сексуальности, каждый ребенок, лишенный любви и ведомый тайным посмертным педерастическим влечением графа Вандомского, с кругами сходимости — важно не то, что эти потоки образуют „единое или множественное“, мы больше не там: существует коллективное устройство высказывания, машинное устройство желания, одно в другом, и они разветвляются на колоссальном внеположном, которое образует разного рода множественности» [33] - пишут Делез и Гваттари.
Ризоматичность повествования во «Вратах рая» заложена уже в самой форме исповеди, к которой прибегает рассказчик, передавая слово своим героям. Исповедь как способ передачи смыслов находится по середине между мышлением и говорением. (Один из героев романа, приступая к исповеди, так и говорит: «Впервые в жизни я буду думать вслух», (С.151).
Политический подтекст «Врат рая» был очевиден и для большинства читателей самого микроромана. По словам С. Мусиенко, во «Вратах рая» «исторический костюм служит разоблачению фальши, скрытой под покровом благородной миссии» [25]. История похода к мистическим «вратам рая» прочитывалась современниками Анджеевского как история стремления к коммунистическому «светлому будущему», а пессимистический финал книги — как свидетельство недостижимости подобной цели.
Если в романе «Мрак покрывает землю» в центре внимания Анджеевского был путь приобщения честного человека к порочной идее его последующего нравственного падения, то во «Вратах рая» писателю удалось создать универсальную модель зарождения и искажения самой Идеи.
На примере поступков горстки средневековых подростков Анджеевский наглядно показал, как великая и прекрасная цель на поверку оказывается лишь предлогом для достижения чьих-то собственнических и нередко порочных интересов. Как за спинами фанатично настроенных публичных лидеров незаметно ведут свою темную игру могущественные «серые кардиналы». Как под страхом разоблачения обрастают предательством и ложью любые самые лучшие, самые высокие побуждения. Как команда воодушевленных единомышленников превращается в неуправляемую, тупо следующую приказам толпу. Как фанатизм одних, корысть других и глупость третьих неминуемо приводят к краху самой идеи и гибели ее сторонников — сотен, а нередко сотен тысяч людей.
С.Мусиенко пишет: «Парабола Анджеевского не ограничивается только развенчанием ложной идеи, свойственной эпохе сталинизма. Ее роль более значима: писатель стремится придать сюжету универсальный, вневременный характер. Любое политическое одурманивание людей, по Анджеевскому, — это путь в темноту"[26].
Во «Вратах рая» писатель продолжил ту исповедальную, покаянческую стилистику, начало которой было положено в романе «Мрак покрывает землю». Желание «рассчитаться» с прошлыми заблуждениями и ошибками угадывается во «Вратах рая» не только в выборе темы, но и в способе ее раскрытия.
Дети — герои Анджеевского — исповедуются старику-священнику в своих далеко не детских грехах, а вместе с ними исповедуется, кается, признается в своих недавних ошибках и безличный рассказчик, и сам автор. Охваченный желанием высказаться, снять грех с души, выплеснуть в словесном потоке наружу все то, что наболело, он забывает про точки и паузы, нарушает правила пунктуации, перескакивает с одной мысли на другую. Как пишет Я. Блоньский, «пропуская точки, он (повествователь — А.С.) переламывает собственную внутреннюю цензуру» [27].
Синтаксис во «Вратах рая», как и во всей поздней прозе Анджеевского, перестает быть элементарным способом артикуляции означаемых. Оформляя текст своего микроромана как одну бесконечную фразу без точек, писатель не только ломает веками устоявшиеся читательские стереотипы, но и делает пунктуацию самостоятельным смыслообразующим элементом текста.
Отказ от точек был программным решением для Анджеевского. Ксения Старосельская, осуществившая блестящий перевод «Врат рая» на русский язык, в одном из своих интервью вспоминает: «Я переводила повесть замечательного писателя Ежи Анджеевского „Врата рая“. В этой повести всего 2 фразы. Вторая последняя такая: „И они шли целую ночь“. Все остальные 4 листа занимает первая. Я довольна этой работой: вот здесь меня подхватила какая-то правильная волна и понесла, не давая перевести дух, что и требовалось. Потом, когда работа была уже давно сделана, мне рассказали, что в Польше в Литературном музее хранится рукопись, где в тексте фразы разделены… точками. Потом автор их убрал. А я, переводя, старалась ни в коем случае никаких точек — мысленно — не ставить» [28].
Отказываясь от традиционных правил пунктуации, Анджеевский решает во «Вратах рая» сразу несколько художественных задач:
- Неоформленность синтаксиса свидетельствует о неготовности повествователя логически структурировать текст, мысли, эмоции, которые переполняют его и «выливаются» на бумагу в сыром, грамматически неоформленном виде.
- Бесконечные, перетекающие одна в другую фразы и предложения отражают стихийность, «первобытность» сознания юных героев, больше следующих зову сердца и животных инстинктов, чем голосу рассудка.
- Наконец, лишенное пауз повествование совпадает с ритмом движения похода: останавливаться нельзя! Ослепленные фанатизмом дети заведены, как часовой механизм, они идут и идут, несмотря на бессмысленность и иллюзорность цели. Непрерывность и монотонность их движения на бумаге превращается в непрерывный поток слов, разрастающихся, хаотично множащихся, наслаивающихся друг на друга.
В философии постструктурализма такая расслаивающаяся, саморепродуцирующая структура получила название ризома.
Термин «ризома» был введен в современную философию и науку о литературе в 1976 году французскими учеными Жилем Делезом и Феликсом Гваттари в их работе «Ризома», предварившей появление главного совместного труда французских философов — «Капитализм и шизофрения», вышедшего под названием «Тысяча поверхностей» (1980).
В дословном понимании ризома (фр. rhizome — корневище) — это специфическая корневая система наподобие грибницы, в которой отсутствует центральный стержневой корень, но есть множество хаотически переплетающихся, периодически отмирающих и регенерирующих, непредсказуемых в своем развитии побегов. По мнению Делеза и Гваттари, такая «пучкообразная» структура наиболее соответствует образу современного мира, который «потерял свой стержень» [29].
Французские философы (в духе постмодернистского отказа от логоцентризма и процессуальности) противопоставили ризому любым видам корневой организации, т. е. всем замкнутым и статичным линейным структурам, предполагающим жесткую осевую ориентацию.
Ризома интерпретируется в качестве радикально отличного от корня — «клубня» или «луковицы» — как потенциальной бесконечности, которая может развиваться куда угодно и принимать любые конфигурации, т.к. ризома абсолютно нелинейна.
Ризома может быть прервана в любом месте, но она возобновляется, следуя той или иной своей линии (принцип неозначающего разрыва). Любое место ризомы может и должно быть присоединено к любому другому ее месту (принципы сцепления и гетерогенности). Ризома чужда всякой генетической оси в качестве глубинной структуры (принцип картографии и декалькомании). Ризома не позволяет привести себя ни к единству, ни к множеству (принцип множественности — конфинальности).
Говоря словами Делеза и Гваттари, «речь идет о модели, которая продолжает формироваться и углубляться в процессе, который развивается, совершенствуется, возобновляется» [30].
«Врата рая» — один из первых и, вероятно, наиболее ярких примеров текста-ризомы в современной европейской литературе [31].
Сами Делез и Гваттари упоминают микророман Анджеевского в числе «редких и великих успехов» [32] номадического или ризоматического письма.
Для французских философов монологи во «Вратах рая» — это монологи кочевников, номадов, которые движутся не для того, чтобы добраться до конечной цели — иерусалимских врат, а просто — чтобы не стоять на месте. Их бессмысленному, хаотическому движению вторит движение повествования: текст романа представляет собой скорее сеть, нежели поток значений, где одни и те же фразы возвращаются в разных местах, наделенные разными смыслами.
«Книга Анджеевского „Врата рая“ — это книга, состоящая из одной непрерывной фразы: поток детей, непрерывное шарканье ног при ходьбе, протяженность, поспешность, семиотический поток всех детских признаний, с которыми они приходят к старому монаху, идущему во главе процессии, поток желания, и сексуальности, каждый ребенок, лишенный любви и ведомый тайным посмертным педерастическим влечением графа Вандомского, с кругами сходимости — важно не то, что эти потоки образуют „единое или множественное“, мы больше не там: существует коллективное устройство высказывания, машинное устройство желания, одно в другом, и они разветвляются на колоссальном внеположном, которое образует разного рода множественности» [33] - пишут Делез и Гваттари.
Ризоматичность повествования во «Вратах рая» заложена уже в самой форме исповеди, к которой прибегает рассказчик, передавая слово своим героям. Исповедь как способ передачи смыслов находится по середине между мышлением и говорением. (Один из героев романа, приступая к исповеди, так и говорит: «Впервые в жизни я буду думать вслух», (С.151).
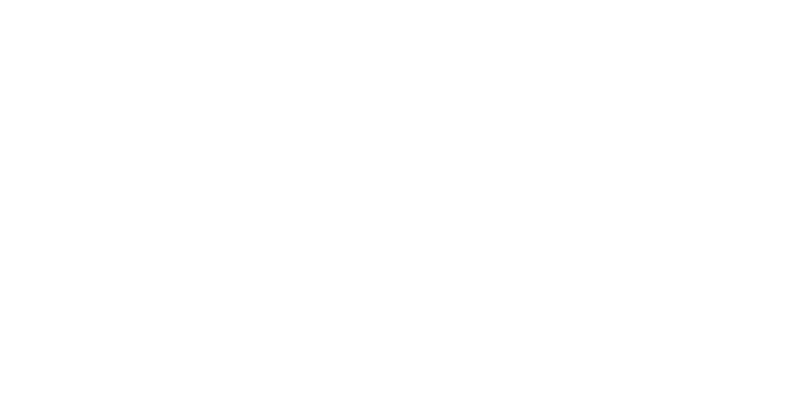
Ризома
Фото: livejournal.com
Фото: livejournal.com
Речь, как и мысль, исповедующегося не обязана подчиняться общепринятым законам логики: она может разветвляться, распадаться на отдельные, не связанные между собой сюжеты, прерываться и циклически замыкаться, направляясь только силой душевного порыва, откровенности и готовности грешника к очищению.
Влодзимеж Мачёнг первым обратил внимание на то, что Анджеевский во «Вратах рая» идет дальше традиционного применения техники «внутреннего монолога»: факты, рассказанные во время исповеди, по мнению Мачёнга, получают двойное преломление — «преломляются сначала в сознании самих грешников, а следом в акте церемонии» [34].
Обращаясь к технике «потока сознания», писатель не только детально описывает мысли, чувства, процессы душевной жизни, переживания и размышления героев, но и экспериментирует со временем, применяя принцип временного и пространственного симультанизма.
Симультанизм как принцип изображения одновременных событий в разных местах вошел в изобразительное искусство в начале ХХ века через манифесты итальянских футуристов, поэзию Гийома Аполлинера и живопись Робера Делоне. Сегодня симультанизм, как правило, трактуют как выражение особой динамики жизни, совмещение художественного проницаемого времени и вечного «здесь и теперь», мгновения и процесса.
Проблема времени — одна из ключевых во «Вратах рая». В ее решении отмечается антиклассический подход, проявляющийся в отказе от хроникальности, в расчленении внутреннего и внешнего темпов повествования. Время у Анджеевского — психологическое, субъективное, эмоционально насыщенное, со множеством ассоциативных связей.
Писатель опирается на близкую Марселю Прусту технику реконструирования прошлого при помощи чувственных переживаний, ассоциаций, неотрефлексированных воспоминаний. Каждый герой вносит в повествование свои ритмы, в результате время во «Вратах рая» представлено максимально индивидуально.
Особое, едва ли не ключевое, значение в прозе Анджеевского приобретает связь времени и пространства. Во «Вратах рая» писатель использует один из наиболее ярких художественных хронотопов — хронотоп дороги. По мнению М. Бахтина именно в хронотопе дороги «единство пространственно-временных определений раскрывается с исключительной четкостью и ясностью» [35].
Говоря словами Бахтина, «здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями (разрядка М. Бахтина — А.С.), которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место совершения событий. <…> Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему <…> Метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень — течение времени"[36].
Напряженная внутренняя связь пространства и времени во «Вратах рая» отчетливее всего реализуется через архетип движения — непрекращающегося ни на минуту движения многотысячной толпы подростков.
Движение — одно из неотъемлемых условий человеческого существования, символ времени, которое никогда не стоит на месте, синоним мышления человека. Движение традиционно ассоциируется с прогрессом, развитием, достижением цели. Согласно известной максиме, движение есть сама жизнь.
Парабола Анджеевского опирается на идею Крестового похода как символа вечного, общечеловеческого движения — в поисках истины, идеального мира, Царства Божия на земле.
Герои Анджеевского стремятся к иерусалимским вратам, отождествившимся для средневековой Европы с вратами небесными, а движутся к собственной гибели, которую нельзя ни отсрочить, ни предотвратить. И вместе с ними к заведомой гибели движется весь мир, все человечество, уподобленное этим слепым детям — слепым, потому что «они не видели ни неба, ни земли, могли видеть только головы и спины идущих перед ними» (С.126).
Критики не раз отмечали «пантрагическую концепцию истории», реализованную во «Вратах рая». История, по Анджеевскому, есть путь во мраке — невежества, лицемерия, лжи. Только одним суждено брести в темноте, а другим — вести в темноту.
Как пишет С. Мусиенко, «Анджеевский считает все, кроме правды и стыда, тщетным, и сомневается в возможности чистых помыслов и стремлений. Поэтому никто из героев не увидит света. Из ложного лабиринта чувств и страстей они не выходят. Автор прерывает исповеди героев смертью монаха, а дети продолжают идти к своей гибели» [37].
Писатель ставит перед своими читателями мучительные и парадоксальные вопросы:
Концепция Анджеевского реализуется через ахронологическое построение действия. Видение старого монаха, предрекающее гибель Алексея и Жака в пустыне и фактически представляющее собой эпилог романа, по принципу Nachgeschichte [39] дается в самом начале текста.
«В ужасном сне той ночью, когда я возжелал служить этим невинным детям, я увидел во сне мертвую, спаленную солнцем пустыню <…> увидел двух юных отроков, одиноко бредущих пустыней, <…> старший, который вел за руку младшего, споткнулся и упал, иди — сказал он, из последних сил поднимая голову, — я немножко отдохну, <…> иди вперед, прямо вперед, уже начинает светать, сейчас ты увидишь стены и башни Иерусалима, иди, я отдохну немного и тебя догоню, тогда младший зашагал послушно вперед, и по его движениям я сразу понял, что мальчик слеп, <…> я все еще не видел лица слепого, он шел один средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, неловкими руками ощупывая пустоту, словно искал в ней опору, а другой, мертвеющими уже губами касаясь песками, еще успел сказать: светает, я вижу громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю, откуда исходит, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливающегося в воздухе и в небе над ними, Боже не допусти, чтоб когда-нибудь сбылся этот ужасный сон, я уже и проснулся, и еще был во власти сна, когда маленький светловолосый слепец, продолжая идти вперед и касаясь руками пустого воздуха так, точно настоящих касался стен, обратил ко мне лицо, и тогда <…> я увидел перед собой лицо <…> то было лицо Жака из Клуа» (С.127−128).
Как пишет Т. Валас, трагический эпилог, расположенный в начале книги, дает основания ожидать «волнующего рассказа о крахе утопии, родившейся из безоговорочного, иррационального убеждения в реальной действенности веры и чистых побуждений, рассказа о тщетном рвении и равнодушной эмпирии. Мы же получаем изысканную и горькую поэтичную повесть об исковерканной идее и ее разрастании"[40].
Влодзимеж Мачёнг первым обратил внимание на то, что Анджеевский во «Вратах рая» идет дальше традиционного применения техники «внутреннего монолога»: факты, рассказанные во время исповеди, по мнению Мачёнга, получают двойное преломление — «преломляются сначала в сознании самих грешников, а следом в акте церемонии» [34].
Обращаясь к технике «потока сознания», писатель не только детально описывает мысли, чувства, процессы душевной жизни, переживания и размышления героев, но и экспериментирует со временем, применяя принцип временного и пространственного симультанизма.
Симультанизм как принцип изображения одновременных событий в разных местах вошел в изобразительное искусство в начале ХХ века через манифесты итальянских футуристов, поэзию Гийома Аполлинера и живопись Робера Делоне. Сегодня симультанизм, как правило, трактуют как выражение особой динамики жизни, совмещение художественного проницаемого времени и вечного «здесь и теперь», мгновения и процесса.
Проблема времени — одна из ключевых во «Вратах рая». В ее решении отмечается антиклассический подход, проявляющийся в отказе от хроникальности, в расчленении внутреннего и внешнего темпов повествования. Время у Анджеевского — психологическое, субъективное, эмоционально насыщенное, со множеством ассоциативных связей.
Писатель опирается на близкую Марселю Прусту технику реконструирования прошлого при помощи чувственных переживаний, ассоциаций, неотрефлексированных воспоминаний. Каждый герой вносит в повествование свои ритмы, в результате время во «Вратах рая» представлено максимально индивидуально.
Особое, едва ли не ключевое, значение в прозе Анджеевского приобретает связь времени и пространства. Во «Вратах рая» писатель использует один из наиболее ярких художественных хронотопов — хронотоп дороги. По мнению М. Бахтина именно в хронотопе дороги «единство пространственно-временных определений раскрывается с исключительной четкостью и ясностью» [35].
Говоря словами Бахтина, «здесь своеобразно сочетаются пространственные и временные ряды человеческих судеб и жизней, осложняясь и конкретизуясь социальными дистанциями (разрядка М. Бахтина — А.С.), которые здесь преодолеваются. Это точка завязывания и место совершения событий. <…> Здесь время как бы вливается в пространство и течет по нему <…> Метафоризация дороги разнообразна и многопланова, но основной стержень — течение времени"[36].
Напряженная внутренняя связь пространства и времени во «Вратах рая» отчетливее всего реализуется через архетип движения — непрекращающегося ни на минуту движения многотысячной толпы подростков.
Движение — одно из неотъемлемых условий человеческого существования, символ времени, которое никогда не стоит на месте, синоним мышления человека. Движение традиционно ассоциируется с прогрессом, развитием, достижением цели. Согласно известной максиме, движение есть сама жизнь.
Парабола Анджеевского опирается на идею Крестового похода как символа вечного, общечеловеческого движения — в поисках истины, идеального мира, Царства Божия на земле.
Герои Анджеевского стремятся к иерусалимским вратам, отождествившимся для средневековой Европы с вратами небесными, а движутся к собственной гибели, которую нельзя ни отсрочить, ни предотвратить. И вместе с ними к заведомой гибели движется весь мир, все человечество, уподобленное этим слепым детям — слепым, потому что «они не видели ни неба, ни земли, могли видеть только головы и спины идущих перед ними» (С.126).
Критики не раз отмечали «пантрагическую концепцию истории», реализованную во «Вратах рая». История, по Анджеевскому, есть путь во мраке — невежества, лицемерия, лжи. Только одним суждено брести в темноте, а другим — вести в темноту.
Как пишет С. Мусиенко, «Анджеевский считает все, кроме правды и стыда, тщетным, и сомневается в возможности чистых помыслов и стремлений. Поэтому никто из героев не увидит света. Из ложного лабиринта чувств и страстей они не выходят. Автор прерывает исповеди героев смертью монаха, а дети продолжают идти к своей гибели» [37].
Писатель ставит перед своими читателями мучительные и парадоксальные вопросы:
- Если «чистые» цели способны привести к самым страшным, кровавым последствиям, то следует ли стремиться к ним вообще?
- Если человеком движут темные, низменные инстинкты, то способен ли он иметь «чистые» цели?
- Если история управляется биологическими инстинктами кучки невежественных лжецов и слепцов, то есть ли смысл в отдельной человеческой жизни и в истории всего человечества?
Концепция Анджеевского реализуется через ахронологическое построение действия. Видение старого монаха, предрекающее гибель Алексея и Жака в пустыне и фактически представляющее собой эпилог романа, по принципу Nachgeschichte [39] дается в самом начале текста.
«В ужасном сне той ночью, когда я возжелал служить этим невинным детям, я увидел во сне мертвую, спаленную солнцем пустыню <…> увидел двух юных отроков, одиноко бредущих пустыней, <…> старший, который вел за руку младшего, споткнулся и упал, иди — сказал он, из последних сил поднимая голову, — я немножко отдохну, <…> иди вперед, прямо вперед, уже начинает светать, сейчас ты увидишь стены и башни Иерусалима, иди, я отдохну немного и тебя догоню, тогда младший зашагал послушно вперед, и по его движениям я сразу понял, что мальчик слеп, <…> я все еще не видел лица слепого, он шел один средь мертвой, спаленной солнцем пустыни, неловкими руками ощупывая пустоту, словно искал в ней опору, а другой, мертвеющими уже губами касаясь песками, еще успел сказать: светает, я вижу громадные стены и ворота Иерусалима, позолоченные светом, который не знаю, откуда исходит, то ли от самих стен, ворот и башен, то ли от золотого сиянья, разливающегося в воздухе и в небе над ними, Боже не допусти, чтоб когда-нибудь сбылся этот ужасный сон, я уже и проснулся, и еще был во власти сна, когда маленький светловолосый слепец, продолжая идти вперед и касаясь руками пустого воздуха так, точно настоящих касался стен, обратил ко мне лицо, и тогда <…> я увидел перед собой лицо <…> то было лицо Жака из Клуа» (С.127−128).
Как пишет Т. Валас, трагический эпилог, расположенный в начале книги, дает основания ожидать «волнующего рассказа о крахе утопии, родившейся из безоговорочного, иррационального убеждения в реальной действенности веры и чистых побуждений, рассказа о тщетном рвении и равнодушной эмпирии. Мы же получаем изысканную и горькую поэтичную повесть об исковерканной идее и ее разрастании"[40].
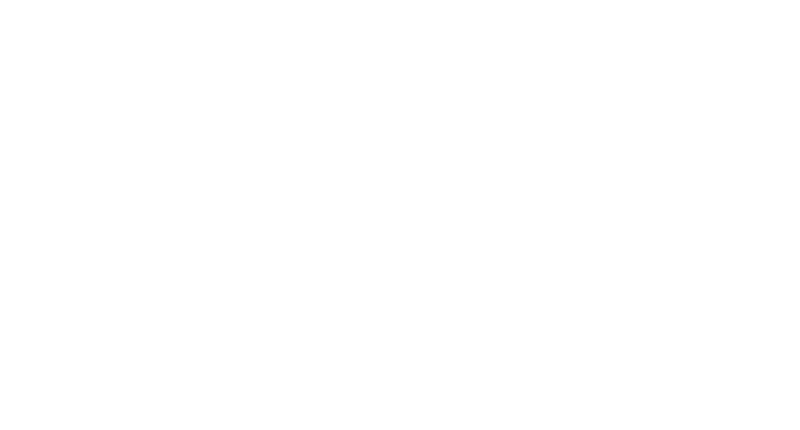
Кадр из фильма «Врата рая» (реж. А. Вайда, 1968)
фото: imdb.com
фото: imdb.com
Углубление в историю во «Вратах рая» оборачивается созданием контристории (Gegengeschichte). На основе полуисторического-полумифологического сюжета Анджеевский плюрализирует реальность, утверждая, что не может существовать только одна действительность и одна историческая правда. Повествуя о перипетиях похода от лица подростков, далеких от понимания политических целей и исторического значения своей миссии, писатель дегероизирует события, представляя собственную, глубоко психологическую версию случившегося.
Всех детей объединяет и заставляет двигаться вперед порочная страсть, в центре которой — предводитель похода Жак Прекрасный. Мод признается в своей исповеди: «Иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, губы, руки, глаза, она во мне, моя любовь, она — это я, и я — она, это она, занимающая все мои мысли, живущая в каждой частице моего тела, любовь заставила меня покинуть родительский дом, бросить, не сказав ни слова, отца и мать, прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью» (С.130).
Дети грешны, но им — грешным и далеко не всегда готовым к раскаянью — старый священник с готовностью отпускает грехи, а самого Жака, единственного сохранившего чистоту и плоти и помыслов, оставляет без благословения. «Тебе одному, самому чистому и невинному из всех, тебе, не сказавшему ни слова неправды и даже тени мысли не затаившему, тебе одному я не могу отпустить прегрешенья и тебя одного не могу благословить…» (С.185) — размышляет старый монах.
В этом отказе — кульминация и, вероятно, главный экзистенциальный «вызов» романа.
Оставляя Жака без благословения, Анджеевский задает систему ценностных ориентиров, согласно которой «чистота» и «невинность» Жака оказываются страшнее и опаснее любого грехопадения. Писатель утверждает: его тело не познало греха, но лишь потому, что его сердце не познало любви. «У меня нет девушки, — отвечает Жак на вопрос графа Людовика, — наверное, потому что я никого не люблю». (С.184).
Как пишет С. Мусиенко, «писатель не доводит Жака до грехопадения, показывая, что его фанатизм, эгоизм и безразличие к людям страшнее греха мужеложства» [41].
Холодный и безразличный к кокетству Бланш, молчаливому обожанию Мод и вожделению Алексея, Жак безразличен не только к зову плоти, но и к душевным порывам, свойственным его легкомысленным сверстникам, к переживаниям, вере, высоким стремлениям, к самой жизни.
«Жак всегда немного отличался от нас, его называли Жаком Найденышем, он никогда не любил общих забав, предпочитал одиночество, а если играл с нами, то так, будто был среди нас и одновременно где-то еще» (С.138) — рассказывает Робер.
«Я люблю Жака и в своей любви к нему тоже могу поклясться, я люблю его, потому что он чист и невинен, он лучше меня, другого такого нету на свете, но я люблю его еще и потому, что он недоступен» (С.148) — признается Бланш.
Отрешенность Жака несложно принять за избранность, влюбленная Мод утверждает: «Бог призвал его к великим делам и этому он отдал свое сердце» (С.132). Однако по мысли Анджеевского, в действительности эта отрешенность лишь маскирует духовную пустоту и глухоту. Проповедуя перед детьми в Клуа, Жак слышит не глас Божий, а голос графа Людовика, с легкостью уговорившего ни к чему не привязанного мальчика на авантюрный поход во искупление его — графа — как прежних (участие в разгроме Константинополя, убийство родителей Алексея Мелиссена), так и недавних грехов (совращение Алексея).
Священная миссия превращается сначала в фарс, а после в трагедию, которую предчувствует старик из Клуа, проклинающий Жака: «его проклинаю, приблуду этого, который, верно, отродье самого Сатаны, приблуду, что с помощью дьявольских штучек попутал наших детей и внуков, его проклинаю я и его имя, и душу его, и тело, знай же <…> нет у нас больше ни детей, ни внуков, и в других деревнях окрест тоже пусто, ни детей, ни внуков там не осталось, всех обморочил и заразил своим безумием этот проклятый приблуда» (С.170).
Путь к вратам рая оказывается дорогой в ад, вымощенной благими намерениями, потайными желаниями и роковыми ошибками. Крестовый поход превращается в «поход безумия, безумия и невинности, безумия и страстей, страстей и лжи» (С.176). Исповедь не ведет к покаянию и очищению, а только глубже уводит грешников в недра их темных страстей и нечестивых мыслей.
Предложенная Анджеевским концепция конфликтует с традиционной христианской трактовкой событий. Ян Блоньский пишет: «Анджеевский вращается в кругу христианских истин, но принимает их в еретической и пессимистической интерпретации» [42].
Глубину несовпадения авторского мировоззрения и традиционных религиозных постулатов только усиливает манера и форма повествования, тонко стилизованного под различные жанры христианской литературы: жития, видения, поучения, притчи.
Хорошо знакомый с католической литературой, как ранней, так и современной (вспомним об участии писателя в кружке прелата Владислава Корниловича), Анджеевский буквально пропитывает «Врата рая» аллюзиями на разнообразные религиозные тексты:
Повторяет эпитеты в описаниях, использует частые рефрены и анафоры. Через все повествование рефреном проходят слова из проповеди Жака:"Господь всемогущий возвестил мне, чтобы противу бездушной слепоты, рыцарей, герцогов и королей дети христианские не оставили милосердием город Иерусалим, пребывающий в руках нечестивых турок…" (С.125), которые повторяются 8 раз. Анафоры и повторения встречаются и в речи каждого из персонажей: «Не ложь, а правда убивает надежду» (С.188) — в речи священника, «Широко разлившиеся желтые и вспененные воды Луары» (С.164) — в воспоминаниях Алексея и др.
Повествователь задается исконно религиозными вопросами: Что есть вера, надежда любовь? К чему ведет потакание страстям? Что есть дух и плоть? Где истина, а где ложь? — но ответы на эти вопросы ищет (и находит) вне плоскости религии. Герои Анджеевского движутся на встречу Богу, но в Бога не веруют.
«Господи, <…> великий и всемогущий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, Господь незримый и несуществующий, сотворенный нами самими, не знаю, о чем я мог бы просить тебя, если бы ты был…» (С.152) — думает Алексей Мелиссен.
Его мыслям вторят размышления священника: «Теперь я уже знаю, — думал старый человек, — что мою руку направляет не Бог, а призрачная надежда, будто в юности можно отыскать смысл и порядок мирского бытия…» (С.177).
Фигура старого монаха не менее провокационна, чем другие персонажи микроромана. В характере и портрете священника угадываются черты главного героя следующего скандального романа Анджеевского — старика Ортиза из «Идет, скачет по горам».
Оба персонажа, и средневековый старик-священник, и куражащийся над современниками престарелый художник, увлечены идеей, вероятно, близкой самому Анджеевскому: в чужой молодости найти источник собственных жизненных сил, возродиться через соприкосновение с пышущей жизнью и желаниями юностью.
«Навстречу походу я вышел с одной только целью: обрести себя в чужих признаниях и с помощью чужих желаний еще раз, возможно, уже последний, самому вкусить радость самоотречения…» (С.175) — признается старый монах во «Вратах рая», и продолжает: «Я искал источники и нашел их отравленными, я пытался бежать от самого себя и в этом бегстве, бегстве от себя, не в состоянии от себя оторваться, здесь искал я поддержку своим умирающим надеждам, у юности искал поддержку своей угасающей старости, но мне еще не достает отваги, чтобы перечеркнуть все это и позволить тьме бесповоротно себя поглотить, уже лишенный надежды, я еще ее жажду, ибо последняя надежда — не надежда вовсе, а потребность в ней, и легче все надежды похоронить, легче следить за их агонией, нежели задушить в себе потребность иметь надежду…» (С.176).
Насколько внешняя форма изречений священника совпадает с риторикой канонических христианских текстов, настолько внутренний смысл его слов противоречит смыслу и пафосу библейских максим. Как справедливо замечает А. Байздренко, «это скорее афоризмы экзистенциалиста, чем католика» [43].
«Несчастья, страдания, чувство потерянности вызывают желание верить, из этих же отравленных источников рождается сама вера…» (С.142) — «богохульствует» священник во «Вратах рая».
Проблема веры для Анджеевского тесно переплетается с проблемой любви и надежды. Писатель трактует веру через любовь — к Богу и к ближнему, а любовь — через надежду на взаимность. Путь и к тому, и к другому, по мысли Анджеевского, подобно пути в Царство Божие, лежит через страдание.
«Любви должно сопутствовать страдание, не любить нельзя, но, если любишь, любовь расщепляется на любовь и страдание…» (С.137) — говорит Робер.
«Не любовь моя — грех, а то, что только ей я могу служить, ей, а не той, высшей любви, которой служит Жак…» (С.134) — сокрушается Мод.
«Любовь — это только клубок недостижимых желаний <…> любовь приносит только страданья, а вот темное наслаждение рождается и живет среди ненависти и презренья…» (С.169) — утверждает Алексей Мелиссен.
«Любовь — зов и поиск, она хочет все подчинить себе, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет ее, любовь — отчаянье средь несовместимых стихий, одиночество средь несовместимых стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместимых стихий…» (С.185) — повторяет Жак слова графа Людовика.
Моральная и философская концепция, созданная Анджеевским во «Вратах рая», во многом провокационна и противоречива. Писатель ставит вопросы, которые едва ли имеют однозначные убедительные ответы, указывает на тупики, но нередко даже не пробует найти выход из них.
Трудно не согласиться с А. Байздренко, которая пишет: «Особенность повести в том, что, в отличие от традиционных притч и притчеобразных литературных произведений, где заданные вопросы подразумевают поиски ответов в системе общепринятых этических ценностей, „Врата рая“ не поддаются однозначной интерпретации <…>, и, больше того, даже не подразумевают возможности обретения выхода из экзистенциального тупика поставленных проблем» [44].
Перед каждым новым читателем микророман Анджеевского открывается все новыми и новыми гранями. Свои варианты интерпретации «Врат рая» предлагают режиссеры и художники (за последние несколько лет был предпринят целый ряд театральных и кино инсценировок романа, в том числе в России) [45].
Будучи оригинальным «документом своей эпохи», книга Анджеевского остается современной по типу мышления и находит отклик в умах и сердцах многих читателей, как в Польше, так и за ее пределами.
Всех детей объединяет и заставляет двигаться вперед порочная страсть, в центре которой — предводитель похода Жак Прекрасный. Мод признается в своей исповеди: «Иная любовь живет во мне, любовь, которой полны все мои мысли и каждая частица моего тела, губы, руки, глаза, она во мне, моя любовь, она — это я, и я — она, это она, занимающая все мои мысли, живущая в каждой частице моего тела, любовь заставила меня покинуть родительский дом, бросить, не сказав ни слова, отца и мать, прости, добрый и милосердный Боже, что к твоему гробу я иду не из любви к тебе, а связанная и переполненная иной любовью» (С.130).
Дети грешны, но им — грешным и далеко не всегда готовым к раскаянью — старый священник с готовностью отпускает грехи, а самого Жака, единственного сохранившего чистоту и плоти и помыслов, оставляет без благословения. «Тебе одному, самому чистому и невинному из всех, тебе, не сказавшему ни слова неправды и даже тени мысли не затаившему, тебе одному я не могу отпустить прегрешенья и тебя одного не могу благословить…» (С.185) — размышляет старый монах.
В этом отказе — кульминация и, вероятно, главный экзистенциальный «вызов» романа.
Оставляя Жака без благословения, Анджеевский задает систему ценностных ориентиров, согласно которой «чистота» и «невинность» Жака оказываются страшнее и опаснее любого грехопадения. Писатель утверждает: его тело не познало греха, но лишь потому, что его сердце не познало любви. «У меня нет девушки, — отвечает Жак на вопрос графа Людовика, — наверное, потому что я никого не люблю». (С.184).
Как пишет С. Мусиенко, «писатель не доводит Жака до грехопадения, показывая, что его фанатизм, эгоизм и безразличие к людям страшнее греха мужеложства» [41].
Холодный и безразличный к кокетству Бланш, молчаливому обожанию Мод и вожделению Алексея, Жак безразличен не только к зову плоти, но и к душевным порывам, свойственным его легкомысленным сверстникам, к переживаниям, вере, высоким стремлениям, к самой жизни.
«Жак всегда немного отличался от нас, его называли Жаком Найденышем, он никогда не любил общих забав, предпочитал одиночество, а если играл с нами, то так, будто был среди нас и одновременно где-то еще» (С.138) — рассказывает Робер.
«Я люблю Жака и в своей любви к нему тоже могу поклясться, я люблю его, потому что он чист и невинен, он лучше меня, другого такого нету на свете, но я люблю его еще и потому, что он недоступен» (С.148) — признается Бланш.
Отрешенность Жака несложно принять за избранность, влюбленная Мод утверждает: «Бог призвал его к великим делам и этому он отдал свое сердце» (С.132). Однако по мысли Анджеевского, в действительности эта отрешенность лишь маскирует духовную пустоту и глухоту. Проповедуя перед детьми в Клуа, Жак слышит не глас Божий, а голос графа Людовика, с легкостью уговорившего ни к чему не привязанного мальчика на авантюрный поход во искупление его — графа — как прежних (участие в разгроме Константинополя, убийство родителей Алексея Мелиссена), так и недавних грехов (совращение Алексея).
Священная миссия превращается сначала в фарс, а после в трагедию, которую предчувствует старик из Клуа, проклинающий Жака: «его проклинаю, приблуду этого, который, верно, отродье самого Сатаны, приблуду, что с помощью дьявольских штучек попутал наших детей и внуков, его проклинаю я и его имя, и душу его, и тело, знай же <…> нет у нас больше ни детей, ни внуков, и в других деревнях окрест тоже пусто, ни детей, ни внуков там не осталось, всех обморочил и заразил своим безумием этот проклятый приблуда» (С.170).
Путь к вратам рая оказывается дорогой в ад, вымощенной благими намерениями, потайными желаниями и роковыми ошибками. Крестовый поход превращается в «поход безумия, безумия и невинности, безумия и страстей, страстей и лжи» (С.176). Исповедь не ведет к покаянию и очищению, а только глубже уводит грешников в недра их темных страстей и нечестивых мыслей.
Предложенная Анджеевским концепция конфликтует с традиционной христианской трактовкой событий. Ян Блоньский пишет: «Анджеевский вращается в кругу христианских истин, но принимает их в еретической и пессимистической интерпретации» [42].
Глубину несовпадения авторского мировоззрения и традиционных религиозных постулатов только усиливает манера и форма повествования, тонко стилизованного под различные жанры христианской литературы: жития, видения, поучения, притчи.
Хорошо знакомый с католической литературой, как ранней, так и современной (вспомним об участии писателя в кружке прелата Владислава Корниловича), Анджеевский буквально пропитывает «Врата рая» аллюзиями на разнообразные религиозные тексты:
- Наполняет описания природы лиризмом и лаконичностью, свойственными христианской поэзии.
- Использует емкие сравнения, характерные для евангельских притч: «бледен, как полотно» (С.139), «звук, похожий на вздох удивления» (С с.148), «беспомощен, как слеза» (С.172) и др.
- Стилизует все повествование под ритм библейского псалма.
Повторяет эпитеты в описаниях, использует частые рефрены и анафоры. Через все повествование рефреном проходят слова из проповеди Жака:"Господь всемогущий возвестил мне, чтобы противу бездушной слепоты, рыцарей, герцогов и королей дети христианские не оставили милосердием город Иерусалим, пребывающий в руках нечестивых турок…" (С.125), которые повторяются 8 раз. Анафоры и повторения встречаются и в речи каждого из персонажей: «Не ложь, а правда убивает надежду» (С.188) — в речи священника, «Широко разлившиеся желтые и вспененные воды Луары» (С.164) — в воспоминаниях Алексея и др.
Повествователь задается исконно религиозными вопросами: Что есть вера, надежда любовь? К чему ведет потакание страстям? Что есть дух и плоть? Где истина, а где ложь? — но ответы на эти вопросы ищет (и находит) вне плоскости религии. Герои Анджеевского движутся на встречу Богу, но в Бога не веруют.
«Господи, <…> великий и всемогущий Боже, существующий лишь потому, что существуют наши несчастья, Господь незримый и несуществующий, сотворенный нами самими, не знаю, о чем я мог бы просить тебя, если бы ты был…» (С.152) — думает Алексей Мелиссен.
Его мыслям вторят размышления священника: «Теперь я уже знаю, — думал старый человек, — что мою руку направляет не Бог, а призрачная надежда, будто в юности можно отыскать смысл и порядок мирского бытия…» (С.177).
Фигура старого монаха не менее провокационна, чем другие персонажи микроромана. В характере и портрете священника угадываются черты главного героя следующего скандального романа Анджеевского — старика Ортиза из «Идет, скачет по горам».
Оба персонажа, и средневековый старик-священник, и куражащийся над современниками престарелый художник, увлечены идеей, вероятно, близкой самому Анджеевскому: в чужой молодости найти источник собственных жизненных сил, возродиться через соприкосновение с пышущей жизнью и желаниями юностью.
«Навстречу походу я вышел с одной только целью: обрести себя в чужих признаниях и с помощью чужих желаний еще раз, возможно, уже последний, самому вкусить радость самоотречения…» (С.175) — признается старый монах во «Вратах рая», и продолжает: «Я искал источники и нашел их отравленными, я пытался бежать от самого себя и в этом бегстве, бегстве от себя, не в состоянии от себя оторваться, здесь искал я поддержку своим умирающим надеждам, у юности искал поддержку своей угасающей старости, но мне еще не достает отваги, чтобы перечеркнуть все это и позволить тьме бесповоротно себя поглотить, уже лишенный надежды, я еще ее жажду, ибо последняя надежда — не надежда вовсе, а потребность в ней, и легче все надежды похоронить, легче следить за их агонией, нежели задушить в себе потребность иметь надежду…» (С.176).
Насколько внешняя форма изречений священника совпадает с риторикой канонических христианских текстов, настолько внутренний смысл его слов противоречит смыслу и пафосу библейских максим. Как справедливо замечает А. Байздренко, «это скорее афоризмы экзистенциалиста, чем католика» [43].
«Несчастья, страдания, чувство потерянности вызывают желание верить, из этих же отравленных источников рождается сама вера…» (С.142) — «богохульствует» священник во «Вратах рая».
Проблема веры для Анджеевского тесно переплетается с проблемой любви и надежды. Писатель трактует веру через любовь — к Богу и к ближнему, а любовь — через надежду на взаимность. Путь и к тому, и к другому, по мысли Анджеевского, подобно пути в Царство Божие, лежит через страдание.
«Любви должно сопутствовать страдание, не любить нельзя, но, если любишь, любовь расщепляется на любовь и страдание…» (С.137) — говорит Робер.
«Не любовь моя — грех, а то, что только ей я могу служить, ей, а не той, высшей любви, которой служит Жак…» (С.134) — сокрушается Мод.
«Любовь — это только клубок недостижимых желаний <…> любовь приносит только страданья, а вот темное наслаждение рождается и живет среди ненависти и презренья…» (С.169) — утверждает Алексей Мелиссен.
«Любовь — зов и поиск, она хочет все подчинить себе, но всякое удовлетворение желаний умерщвляет ее, любовь — отчаянье средь несовместимых стихий, одиночество средь несовместимых стихий, но вместе с тем и надежда, неугасимая надежда средь несовместимых стихий…» (С.185) — повторяет Жак слова графа Людовика.
Моральная и философская концепция, созданная Анджеевским во «Вратах рая», во многом провокационна и противоречива. Писатель ставит вопросы, которые едва ли имеют однозначные убедительные ответы, указывает на тупики, но нередко даже не пробует найти выход из них.
Трудно не согласиться с А. Байздренко, которая пишет: «Особенность повести в том, что, в отличие от традиционных притч и притчеобразных литературных произведений, где заданные вопросы подразумевают поиски ответов в системе общепринятых этических ценностей, „Врата рая“ не поддаются однозначной интерпретации <…>, и, больше того, даже не подразумевают возможности обретения выхода из экзистенциального тупика поставленных проблем» [44].
Перед каждым новым читателем микророман Анджеевского открывается все новыми и новыми гранями. Свои варианты интерпретации «Врат рая» предлагают режиссеры и художники (за последние несколько лет был предпринят целый ряд театральных и кино инсценировок романа, в том числе в России) [45].
Будучи оригинальным «документом своей эпохи», книга Анджеевского остается современной по типу мышления и находит отклик в умах и сердцах многих читателей, как в Польше, так и за ее пределами.
Примечания
[1] См. об этом: www.wajda.pl, 18.03.2004.
[2] Цит. По: Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.1. С. 17.
[3] Участников похода, как правило, не делая различий, называют «детьми», хотя из хроник известно, что среди крестоносцев были люди всех возрастов — от младенцев до старцев. Большинство паломников были в возрасте около 20 лет, что никак не дает оснований называть поход «детским». Вероятнее всего, закрепившееся в истории не вполне корректное название «поход детей» проистекает из расширительного толкования слова pueri (дословно — отрок), которым пользовались средневековые хронисты для наименования участников похода. В средневековой Европе pueri могло означать не только подросток, но и — слуга, нищий, простолюдин, что, вероятно, ускользнуло от внимания переводчиков хроник. (См. об этом подробнее: Волков А. Крестовый поход детей // Знание — сила, 2001, № 6).
[4] См. подробнее об истории крестовых походов: Задорожный В. Игра, ставшая трагедией // Атеистические чтения. 1990. № 20; Заборов М. А. Крестоносцы на востоке, М., 1980; Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материалах, М., 1997.
[5] Задорожный В. Указ. соч.
[6] Błoński J. Portret artysty w latach wielkiej zmiany // Błoński J. Odmarsz. Kraków, 1978. S.253.
[7] Анджеевский Е. Врата рая (пер. К. Старосельской) // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т.2. С. 141. Далее цитаты приводятся по этому изданию, страница указывается в тексте работы.
[8] Bereza H. Rapsod Andrzejewskiego // Twórczość. 1961, № 1. Żabicki Z. Rapsod o miłości i dziejach // Żabicki Z. Proza… Proza… Warszawa, 1966.
[9] Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[10] Дружников Ю. Жанр для ХХI века www.lib.ru/ 11.07.2005
[11] Там же.
[12] Ю. Дружников справедливо подмечает также, что «интернет принимает микророман как жанр, уместный для чтения на компьютере. Рождается „автомобильный микророман“ — на 90 минут слушания аудиокассеты на работу и обратно». (Дружников Ю. Указ.соч.).
[13] Польская исследовательница Е. Семиньская посвятила этому вопросу отдельную работу: Siemińska J. Zastosowanie metody analizy dzieła filmowego w badaniu dzieła literackiego na przykładzie powieści Jerzgo Andrzejewskiego «Bramy raju» // Uniwersytet Łódzki, Zeszyty Naukowe, 1965, № 41.
[14] Ведина В. Послевоенная польская проза. Проблематика и поэтика. Киев, 1991. С. 278.
[15] Maciąg W. Bramy raju i piekła // Opinie i wróżby. Proza i krytyka polska dnia bieżącego. Kraków, 1963. S.33.
[16] Błoński J. Op. cit. S. 252.
[17] Żabicki Z. Op. cit. S. 227.
[18] Байздренко А. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола //Вестник Московского университета. Серия «Филология». 1997, № 1. С. 94.
[19] Там же. С. 96.
[20] Siemińska J. Op. cit.
[21] Siemińska J. Op. cit.
[22] Błoński J. Op. cit. S. 252.
[23] Wajda A. www.wajda.pl/, 14.03.2006.
[24] См. об этом: Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[25] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М. 2000. С. 33.
[26] Там же. С. 34.
[27] Błoński J. Op. cit. S.252.
[28] Старосельская К. Я долго работаю над текстом www.russ.ru/ 18.13.2006.
[29] Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения www.filosoft.tsu.ru/, 05.06.2006.
[30] Там же.
[31] В доступной нам критической литературе мы ни разу не встречали попыток проанализировать «Врата рая» в рамках концепции ризомы, так же, как не встречали и самого упоминания о том, что парабола Анджеевского была хорошо знакома авторам «Анти-Эдипа»: обосновывая свою знаменитую теорию, французские философы неоднократно упоминают микророман Анджеевского. (Делез и Гваттари опираются на французское издание «Врат рая»: Gallimar, 1959). Это дает основания утверждать, что во «Вратах рая» Анджеевскому удалось создать модель письма, которая стала материалом для формирования одного из наиболее ярких и продуктивных концептов литературы нового времени. Со временем именно ризома стала рассматриваться как эмблематическая фигура постмодерна. Семиотическая модель мира и мира культуры, реализованного по принципу ризомы, нашла воплощение в образе «сада расходящихся тропок» у Х.-Л.Борхеса и библиотеки-лабиринта у У.Эко. Эко был одним из первых, кто охарактеризовал ризому как своеобразный прообраз постмодернистского лабиринта и отметил, что руководствовался именно этим образом, когда писал свой знаменитый роман «Имя розы». В «Заметках на полях „Имени Розы“» У. Эко пишет: «Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки — это пространство ризомы. Мир, в котором Вильгельм (как он обнаруживает) обитает, — этот мир выстроен уже как ризома. Вернее, по идее выстроен как ризома. Хотя на самом деле не достроен до конца». (Эко У. Заметки на полях «Имени розы». Спб., 2005. С.63).
[32] Делез Ж., Гваттари Ф. Указ. соч.
[33] Там же.
[34] Maciąg W.Op.cit S.32.
[35] Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 134.
[36] Бахтин М. М. Указ. Соч. С. 275.
[37] Мусиенко С. Указ. соч. С.35
[38] Nawrocki W. Zwątpieneie — Ironia — Dystans // Życie Literackie, 1973, № 42. S.6.
[39] Nachgeschichte — повествование о том, что будет, поставленное в связанный рассказ раньше наступления событий, подготовляющих это будущее. Nachgeschichte может даваться в виде вещих снов, пророчеств, более или менее вероятных предположений (См. об этом подробнее: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 187.).
[40] Wałas T. Zwiercadła Jerzego Andrzejewskiego // Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (pod.red. Farona B.). Warszawa, 1972. S.35.
[41] Мусиенко С. Указ. соч. С. 34.
[42] Błoński J. Op. cit. S.256.
[43] Байздренко А. Указ. соч. С. 95.
[44] Байздренко А. Указ. соч. С. 96.
[45] В 2001 году в России состоялась премьера фильма по роману Анджеевского «Врата рая», реализованная режиссером-энтузиастом Геннадием Куравлевым и студией «МИИТ-Фильм». Куравлев посвятил съемкам картины 8 лет. Фильм снят ручной камерой на 16 мм пленке.
В 2004 году Студенческий театр в Лодзи представил публике спектакль по «Вратам рая», режиссером, сценаристом и сценографом которого выступил Вальдемар Заводзиньский.
Российский поэт Данила Давыдов посвятил роману Анджеевского стихотворение «Крестовый поход детей»:
И они шли целую ночь
А потом целый день
Говорили с камнем, с травой
О подвиге и труде
Смотрели вглубь дерева, вглубь
Высохшей почвы
Искали колодец огня, а затем
Мерли поодиночке
Спускались с возвышенности, на ногах
Держались нетвердо
Соединяли Иерусалим и Клуа
Воображаемой хордой
Знали только родной лесок
Да «Pater noster»
Спустились на берег, глядь — корабли
С церковь ростом
Поплыли по воде, к звезде
К Гробу Господню
Кого-то выловили вчера
Других — сегодня
[1] См. об этом: www.wajda.pl, 18.03.2004.
[2] Цит. По: Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.1. С. 17.
[3] Участников похода, как правило, не делая различий, называют «детьми», хотя из хроник известно, что среди крестоносцев были люди всех возрастов — от младенцев до старцев. Большинство паломников были в возрасте около 20 лет, что никак не дает оснований называть поход «детским». Вероятнее всего, закрепившееся в истории не вполне корректное название «поход детей» проистекает из расширительного толкования слова pueri (дословно — отрок), которым пользовались средневековые хронисты для наименования участников похода. В средневековой Европе pueri могло означать не только подросток, но и — слуга, нищий, простолюдин, что, вероятно, ускользнуло от внимания переводчиков хроник. (См. об этом подробнее: Волков А. Крестовый поход детей // Знание — сила, 2001, № 6).
[4] См. подробнее об истории крестовых походов: Задорожный В. Игра, ставшая трагедией // Атеистические чтения. 1990. № 20; Заборов М. А. Крестоносцы на востоке, М., 1980; Заборов М. А. История крестовых походов в документах и материалах, М., 1997.
[5] Задорожный В. Указ. соч.
[6] Błoński J. Portret artysty w latach wielkiej zmiany // Błoński J. Odmarsz. Kraków, 1978. S.253.
[7] Анджеевский Е. Врата рая (пер. К. Старосельской) // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. Т.2. С. 141. Далее цитаты приводятся по этому изданию, страница указывается в тексте работы.
[8] Bereza H. Rapsod Andrzejewskiego // Twórczość. 1961, № 1. Żabicki Z. Rapsod o miłości i dziejach // Żabicki Z. Proza… Proza… Warszawa, 1966.
[9] Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[10] Дружников Ю. Жанр для ХХI века www.lib.ru/ 11.07.2005
[11] Там же.
[12] Ю. Дружников справедливо подмечает также, что «интернет принимает микророман как жанр, уместный для чтения на компьютере. Рождается „автомобильный микророман“ — на 90 минут слушания аудиокассеты на работу и обратно». (Дружников Ю. Указ.соч.).
[13] Польская исследовательница Е. Семиньская посвятила этому вопросу отдельную работу: Siemińska J. Zastosowanie metody analizy dzieła filmowego w badaniu dzieła literackiego na przykładzie powieści Jerzgo Andrzejewskiego «Bramy raju» // Uniwersytet Łódzki, Zeszyty Naukowe, 1965, № 41.
[14] Ведина В. Послевоенная польская проза. Проблематика и поэтика. Киев, 1991. С. 278.
[15] Maciąg W. Bramy raju i piekła // Opinie i wróżby. Proza i krytyka polska dnia bieżącego. Kraków, 1963. S.33.
[16] Błoński J. Op. cit. S. 252.
[17] Żabicki Z. Op. cit. S. 227.
[18] Байздренко А. «Врата рая» Ежи Анджеевского как повесть-парабола //Вестник Московского университета. Серия «Филология». 1997, № 1. С. 94.
[19] Там же. С. 96.
[20] Siemińska J. Op. cit.
[21] Siemińska J. Op. cit.
[22] Błoński J. Op. cit. S. 252.
[23] Wajda A. www.wajda.pl/, 14.03.2006.
[24] См. об этом: Британишский В. Указ. соч. С. 19.
[25] Мусиенко С. Политические аллегории Ежи Анджеевского // Политика и поэтика (сб. статей). М. 2000. С. 33.
[26] Там же. С. 34.
[27] Błoński J. Op. cit. S.252.
[28] Старосельская К. Я долго работаю над текстом www.russ.ru/ 18.13.2006.
[29] Делез Ж., Гваттари Ф. Ризома // Делез Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения www.filosoft.tsu.ru/, 05.06.2006.
[30] Там же.
[31] В доступной нам критической литературе мы ни разу не встречали попыток проанализировать «Врата рая» в рамках концепции ризомы, так же, как не встречали и самого упоминания о том, что парабола Анджеевского была хорошо знакома авторам «Анти-Эдипа»: обосновывая свою знаменитую теорию, французские философы неоднократно упоминают микророман Анджеевского. (Делез и Гваттари опираются на французское издание «Врат рая»: Gallimar, 1959). Это дает основания утверждать, что во «Вратах рая» Анджеевскому удалось создать модель письма, которая стала материалом для формирования одного из наиболее ярких и продуктивных концептов литературы нового времени. Со временем именно ризома стала рассматриваться как эмблематическая фигура постмодерна. Семиотическая модель мира и мира культуры, реализованного по принципу ризомы, нашла воплощение в образе «сада расходящихся тропок» у Х.-Л.Борхеса и библиотеки-лабиринта у У.Эко. Эко был одним из первых, кто охарактеризовал ризому как своеобразный прообраз постмодернистского лабиринта и отметил, что руководствовался именно этим образом, когда писал свой знаменитый роман «Имя розы». В «Заметках на полях „Имени Розы“» У. Эко пишет: «Ризома так устроена, что в ней каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Нет центра, нет периферии, нет выхода. Потенциально такая структура безгранична. Пространство догадки — это пространство ризомы. Мир, в котором Вильгельм (как он обнаруживает) обитает, — этот мир выстроен уже как ризома. Вернее, по идее выстроен как ризома. Хотя на самом деле не достроен до конца». (Эко У. Заметки на полях «Имени розы». Спб., 2005. С.63).
[32] Делез Ж., Гваттари Ф. Указ. соч.
[33] Там же.
[34] Maciąg W.Op.cit S.32.
[35] Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 134.
[36] Бахтин М. М. Указ. Соч. С. 275.
[37] Мусиенко С. Указ. соч. С.35
[38] Nawrocki W. Zwątpieneie — Ironia — Dystans // Życie Literackie, 1973, № 42. S.6.
[39] Nachgeschichte — повествование о том, что будет, поставленное в связанный рассказ раньше наступления событий, подготовляющих это будущее. Nachgeschichte может даваться в виде вещих снов, пророчеств, более или менее вероятных предположений (См. об этом подробнее: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. М., 1996. С. 187.).
[40] Wałas T. Zwiercadła Jerzego Andrzejewskiego // Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego (pod.red. Farona B.). Warszawa, 1972. S.35.
[41] Мусиенко С. Указ. соч. С. 34.
[42] Błoński J. Op. cit. S.256.
[43] Байздренко А. Указ. соч. С. 95.
[44] Байздренко А. Указ. соч. С. 96.
[45] В 2001 году в России состоялась премьера фильма по роману Анджеевского «Врата рая», реализованная режиссером-энтузиастом Геннадием Куравлевым и студией «МИИТ-Фильм». Куравлев посвятил съемкам картины 8 лет. Фильм снят ручной камерой на 16 мм пленке.
В 2004 году Студенческий театр в Лодзи представил публике спектакль по «Вратам рая», режиссером, сценаристом и сценографом которого выступил Вальдемар Заводзиньский.
Российский поэт Данила Давыдов посвятил роману Анджеевского стихотворение «Крестовый поход детей»:
И они шли целую ночь
А потом целый день
Говорили с камнем, с травой
О подвиге и труде
Смотрели вглубь дерева, вглубь
Высохшей почвы
Искали колодец огня, а затем
Мерли поодиночке
Спускались с возвышенности, на ногах
Держались нетвердо
Соединяли Иерусалим и Клуа
Воображаемой хордой
Знали только родной лесок
Да «Pater noster»
Спустились на берег, глядь — корабли
С церковь ростом
Поплыли по воде, к звезде
К Гробу Господню
Кого-то выловили вчера
Других — сегодня