Многие из выдающихся польских писателей этого времени стали инициаторами и активными участниками разнообразных акций протеста, целью которых было сопротивление окончательной догматизации культуры и вмешательству власти в литературное творчество. Другим была уготована полная надежд и лишений судьба политических эмигрантов.
Вовлеченность литераторов и литературы в историко-политический процесс нашла отражение в периодизации польской прозы, где со временем закрепились понятия «поколение'56», «поколение'68», «литература военного положения» и т. п.
Одной из ключевых вех послевоенной истории Польши стал 1956 год. Польский историк литературы А. Завада пишет: «1956 год означает столь глубокий перелом в истории польской культуры, что следует говорить о полной смене, как ее общественной роли, так и об обретении внутренней автономии»[1].
В июне 1956-ого года около пятидесяти тысяч польских рабочих присоединились к студентам и выступили против коммунистического руководства и советского господства в стране. Доверие к власти польских коммунистов было подорвано событиями в Советском Союзе: в 1956 году Н. С. Хрущев в закрытой речи на ХХ съезде КПСС разоблачил культ личности Сталина, а позже примирился с опальным лидером югославских коммунистов Иосифом Броз Тито. В дополнение ко всему в СССР была признана доктрина «разных путей построения социализма».
Эти «шатания» усугубили давно наметившийся раскол внутри Польской Объединенной Рабочей Партии (ПОРП) и привели к политической реабилитации Владислава Гомулки, который в 1948 году был обвинен в «национальном уклоне» и с 1951 по 1954 год находился в заключении. В октябре 1956 года он вновь был избран генеральным секретарем ЦК ПОРП.
Гомулка положил начало либерализации внутренней политики страны и добился некоторой независимости Польши от СССР. Он разоблачал террор и злоупотребления партии, критиковал систему управления экономикой, вынудил уйти в отставку председателя сейма сталинской эпохи, снял советского маршала К. К. Рокоссовского с поста министра национальной обороны и главнокомандующего войсками Польши, который тот занимал с 1949 года.
После возвращения Гомулки смягчились гонения на прессу, начался процесс реабилитации политзаключенных (в том числе тех кто воевал в Армии Крайовой — аковцев), было получено разрешение на репатриацию поляков из СССР. Заметно улучшились и отношения официальных властей с католической церковью, ставшей в первые послевоенные годы главной помехой на пути окончательной «сталинизации» Польши и подвергавшейся неослабным гонениям, кульминацией которых был арест в сентябре 1953 года примаса Польши кардинала Стефана Вышиньского.
Существенные перемены произошли и в сфере культурной жизни страны. В прессе возродились дискуссии, касающиеся отдельных областей общественной жизни — искусства, экономики, законодательства, — их нынешнего состояния и возможности реформирования. Появились новые общественно-культурные периодические издания: «Диалог» («Dialog»), «Однова» («Odnowa»), «Вспулчесность» («Współczesność»); были созданы или возобновили свою деятельность независимые дискуссионные клубы, в том числе знаменитый варшавский «Клуб Кривого Круга» («Klub Krzywego Koła»), основанный в 1955 году Т. Котрабиньским, Э. Липиньским и П.Ясеницей.
В 1956−58 годах из западной эмиграции в Польшу вернулись С. Цат-Мацкевич, З. Коссак-Щуцкая, М. Хороманьский, М. Ванькович, М. Кунцевич и другие писатели.
Однако, несмотря на процессы видимой демократизации и либерализации общественной жизни страны, ПОРП сохраняла монополию на власть, Польша оставалась членом организации Варшавского договора, в состав которой вошла в 1955 году, и уже к началу 1960-ых годов многие из предпринятых Гомулкой реформ были приостановлены или отменены.
Осенью 1957 года неожиданно был наложен запрет на издание первого номера ежемесячника «Европа» («Europa»)[2], в редакционный совет которого входили Е. Анджеевский, Е. Жулавский, М. Хласко, М. Яструн, А. Важик и др. Тогда же Е. Пшибосю и А. Сандауэру было отказано в публикации журнала «Жеч» («Rzecz»), в Кракове был приостановлен выход нового ежемесячника «Тресьть» («Treść»), во Вроцлаве прекращено издание журнала «Новы сигналы и поглёнды» («Nowe Sygnały i Pogląndy»).
В том же 1957 году в Варшаве был закрыт популярнейший еженедельник «Попросту» («Poprostu»). ЦК ПОРП распространил сообщение, что редакционный совет журнала «преумножал неверие в реальность построения социализма и во многих других вопросах придерживался буржуазных взглядов»[3]. Весной 1958 года разгромной критике со стороны правящей партии была подвергнута и «Нова культура» («Nowa Kultura»).
10 ноября 1957 года в ответ на репрессивную культурную политику партии сразу несколько широко известных польских писателей и литераторов — М. Яструн, А. Важик, Ю. Жулавский, Я. Котт, С. Дыгат — демонстративно вышли из рядов Польской Объединенной Рабочей Партии. В числе отважных был и Ежи Анджеевский. Свой партбилет № 1 436 996 он сдал с короткой запиской: «Уже давно моя принадлежность к Партии стала чисто формальной <…>. Я не был, не являюсь и не хочу, особенно после октябрьских событий, считаться политическим противником <…>, но не могу считаться и партийным писателем»[4].
Несколько лет спустя партию покинули также Я. Бохеньский, К. Брандыс, М. Брандыс, Т. Конвицкий, И. Неверли, В. Ворошильский, В. Шимборская и другие писатели.
В 1964 году премьер Польши Юзеф Цыранкович получил открытое письмо, подписанное 34-мя широко известными учеными и литераторами, в котором те выражали протест против ограничения количества бумаги, выделяемой на печать книг и журналов, и ужесточения цензурных запретов. В числе прочих письмо подписали М. Домбровская, К. Выка, М. Яструн, А. Рудницкий, А. Сандауэр и Е.Анджеевский. Эта акция положила начало организованному сопротивлению польской творческой интеллигенции идеологическому диктату и произволу партии.
Когда же несколько месяцев спустя, польское руководство выступило против демократических преобразований «пражской весны», а 21 августа 1968 года, советские войска, и в их составе и части польской армии, вторглись на территорию Чехословакии, польская интеллигенция не отважилась на солидарный акт осуждения предательской оккупации. Открыто высказать свой протест решились только композитор Зыгмунт Мыцельский и писатель Ежи Анджеевский, ставший к тому времени «моральным авторитетом эпохи». Анджеевский отправил открытое письмо на имя председателя Союза чешских писателей Эдуарда Гольдштюкера со словами поддержки и сочувствия.
В борьбе с оппозиционно настроенной интеллигенцией польские власти не стеснялись никаких методов, в ход шли фальсификация и шантаж. Одной из жертв послемартовской кампании стал писатель Павел Ясеница, публично оболганный самим Гомулкой. В своей печально известной речи 19 марта 1968 года, Гомулка обвинил Ясеницу в предательстве родины и сотрудничестве с оккупантами. Позор и клевета ускорили развитие смертельной болезни, Ясеница скончался в сентябре 1970-ого года.
В надгробной речи на его похоронах Ежи Анджеевский произнес: «Мы знаем, что дело твое будет жить и продолжаться. Но будет жить и Твоя обида, которая была не только Твоей обидой, которая переросла Тебя самого, стала предательством важнейших народных ценностей. Обвиненный в поступках, которых не совершал, униженный и оскорбленный, Ясеница был лишен возможности защищаться, его старые книги изъяли из магазинов, его новые книги не публиковались. Выдающийся польский писатель в самом расцвете творческих сил с начала 1968 года оказался вытесненным на периферию общественной жизни, был обречен на гражданскую смерть»[5].
Текст этого выступления[6] вместе с письмом, которое Павел Ясеница незадолго до смерти разослал своим друзьям и коллегам и в котором подробно излагал обстоятельства своего ухода из Армии Крайовой и последовавшего за ним ареста, Анджеевский включил в Дневник, ставший в последствии частью романа «Месиво».
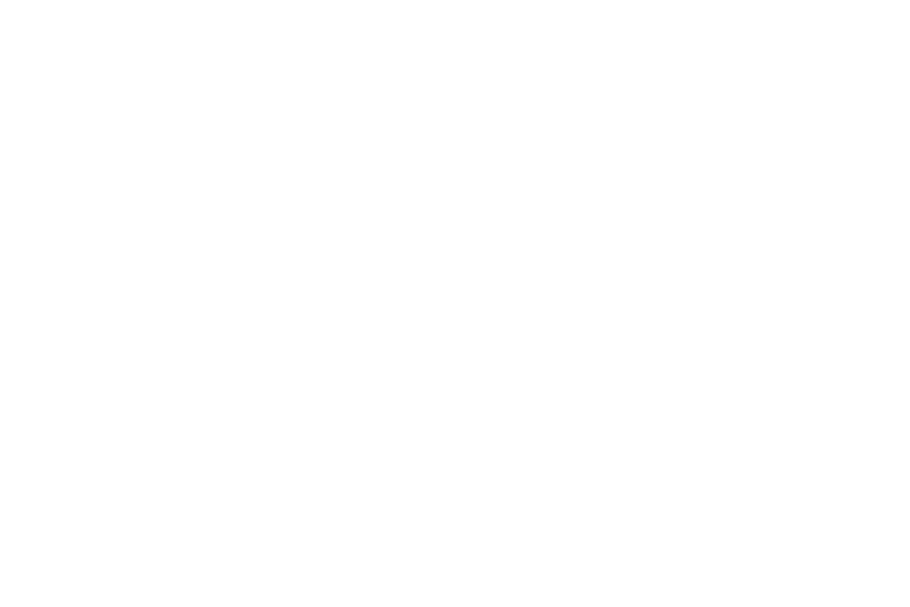
фото: newsweek.pl
Не подходите к нам
Вы у которых еще не все отобрали
Не подходите к нам
Пока вам хватает хлеба и надежды
Не подходите к нам <…>
Пока вам больно но не так больно
Пока вам мерзко но не так мерзко
Пока вас топчут но не так топчут
Пока вас гноят но не так гноят
Пока вам хватает пива и покорности
Не подходите к нам
Свою встречу с работниками судоверфи в Гданьске 25 января 1971 года Герек начал словами: «Товарищи, мы пришли к вам, чтобы сказать, как нам трудно…», а закончил знаменитым – «Ну что, поможете?». Гданьские рабочие, среди которых был и молодой электрик Лех Валенса, хором ответили «Поможем!». Их готовность помочь новому правительству поддержало немало интеллигентов.
Герек попытался успокоить рабочих, отменив повышение цен на продукты и повысив зарплаты. Он объявил о начале нового пятилетнего плана, в котором большое внимание уделялось жилищному строительству и производству товаров народного потребления. Были нормализованы отношения с католической церковью. Наступившая «миниоттепель» вновь вызвала к жизни надежды на ослабление цензуры, отмену пофамильных запретов печати, и в целом – на либерализацию культурной политики внутри страны.
Осенью 1971 года Виктор Ворошильский писал: «Наше время как никакое другое способствует творчеству. ПАП [7] (чего раньше с ним не случалось) передает сообщение о выходе нового романа Антония Слонимского, киножурнал называет начало работы Тадеуша Конвицкого над новой экранизацией едва ли не праздником национального кинематографа, радио шлет в эфир новость о возвращении из заграничного путешествия Казимежа Брандыса. В рвении этих анонсов есть, возможно, нечто комичное, но в целом они вызывают симпатию. В любом случае гораздо приятнее встречать имена известных писателей в таких контекстах, нежели в некоторых других» [8].
Однако, как это уже не раз случалось раньше, уступки и послабления в одной сфере сопровождались усилением цензуры и контроля над большинством других сфер общественной жизни.
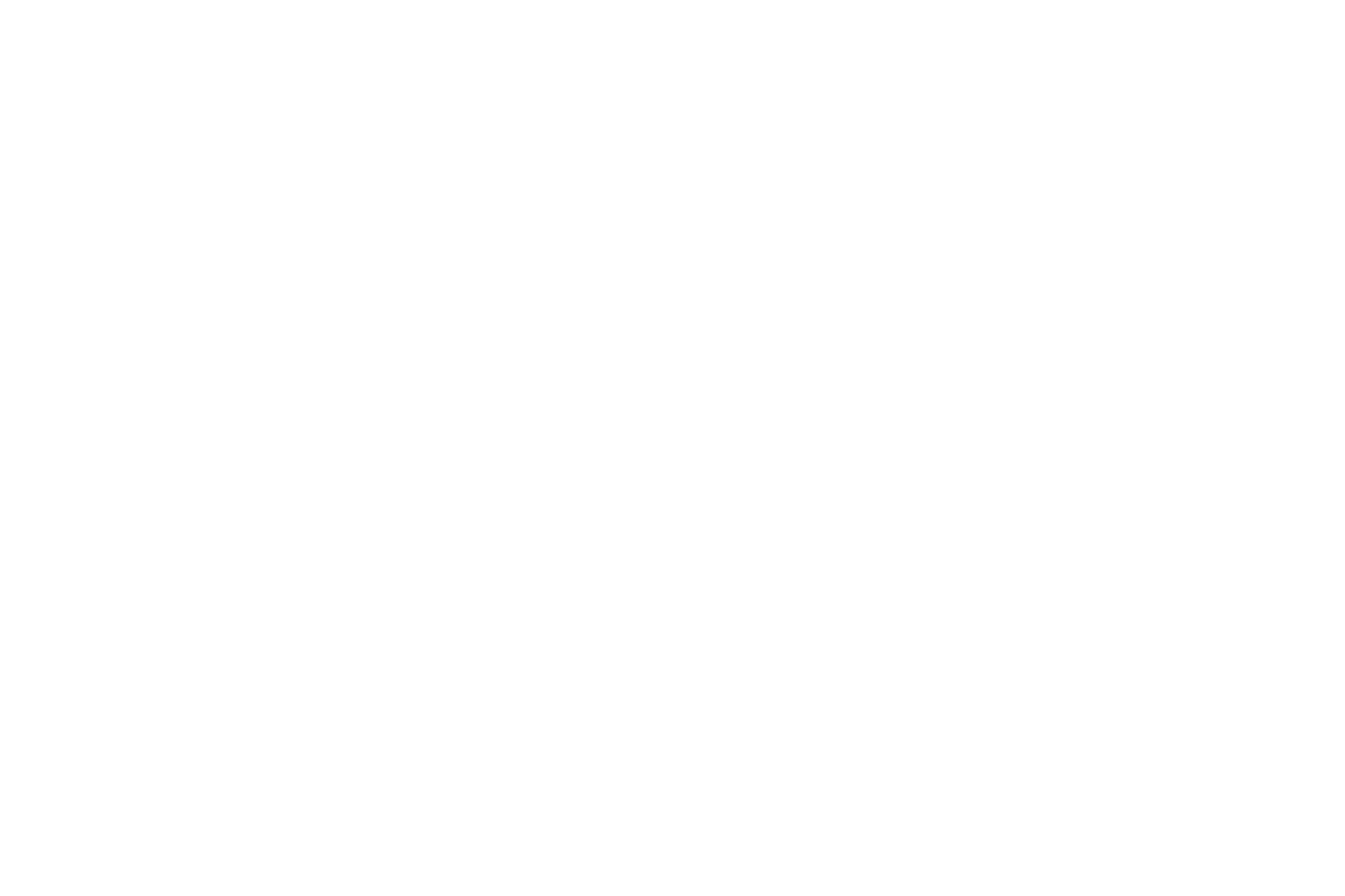
источник: bn.org.pl
Меньше года спустя Польшу охватила новая волна стачек и забастовок, которые заставили правительство вновь вернуться к старым мерам. В 1976 году уже Гереку пришлось отдавать приказ о силовом подавлении выступлений рабочих, студентов и оппозиционно настроенной интеллигенции. Возмущение массовыми арестами и тревога за будущее бастующих и их семей привели к созданию Комитета защиты рабочих (КОР), состоявшего из известных диссидентов и представителей интеллигенции. Среди основателей и активных деятелей КОРа был и .Анджеевский. В 1978 году КОР был преобразован в Комитет общественной самозащиты, став ядром организованной оппозиции.
Деятельность писателей на поприще помощи осужденным спровоцировала новый шквал репрессий, обрушившийся на них самих. Последовало дальнейшее ограничение свободы слова.
Вторая половина 1970-х годов стала временем тотального усиления цензуры: если до сих пор ответственность за допуск неугодного произведения к печати практически целиком возлагалась на цензора, то в 1970-ых годах эту ответственность в равной степени разделяли все участники издательского процесса – от автора до издателя. В результате в 1976 году было организовано первое крупное подпольное издательство – «НОВА», в течение многих лет ежегодно публиковавшее до нескольких десятков книжных наименований. А год спустя появился один из первых нелегальных литературных журналов – «Запис» [9].
К этому времени стало уже очевидным, что партийно-государственное руководство страны оказалось беспомощным перед неумолимо надвигавшимся социально-политическим и экономическим кризисом. Очередная попытка поднять цены на продукты в июле 1980 года вызвала самые крупные забастовки, какие когда-либо знала Польша при коммунистах. Сотни тысяч рабочих бастовали в балтийских городах Гдыня, Гданьск, Щецин и Эльблонг, вскоре к ним присоединились шахтеры Силезии и других районов.
Рабочие создавали забастовочные комитеты на предприятиях, которые возглавлялись межзаводскими стачечными комитетами. При поддержке интеллигенции во главе с Б.Геремеком, Я.Куронем, Т.Мазовецким и А.Михником рабочие создали независимое профсоюзное движение «Солидарность», которое добилось права на проведение забастовок и самоуправление. Под руководством электрика гданьской судоверфи Леха Валенсы «Солидарность» стала массовой оппозиционной партией, оспаривающей главенствующую роль ПОРП в политической жизни Польши. В результате обострившегося противостояния Эдвард Герек вынужден был подать в отставку и отдать бразды правления на посту первого секретаря ПОРП Станиславу Кане, который согласился с большинством требований, выдвинутых руководством «Солидарности».
Набиравшую популярность новую партию поддержала и католическая церковь, усилившая свое влияние в стране после того, как поляк Кароль Войтыла в 1978 году был избран папой римским под именем Иоанн Павел II.
К концу 1980 г. в «Солидарности» состояло уже более трех миллионов человек.
1981-ый год в политической жизни Польши ознаменовался концентрацией власти в партийном руководстве ПНР. Генерал Войцех Ярузельский, сохранив за собой пост министра обороны, был назначен председателем Совета министров и избран первым секретарем ЦК ПОРП, сменив в этой должности не сумевшего урегулировать кризис Каню. В декабре 1981-ого года, после призыва «Солидарности» провести референдум о легитимности коммунистической власти в Польше, Ярузельский ввел в стране военное положение. «Солидарность» была объявлена вне закона.
Военное положение было отменено в 1983 году, а двумя годами позже во главе ЦК КПСС стал М.Горбачев, объявивший курс на реформирование – «перестройку» – всей социалистической системы.
В 1989 году в Польше состоялись парламентские выборы, принесшие «Солидарности» ошеломляющий успех: ее кандидаты получили все места, за которые боролись. Президентом был избран по-прежнему Ярузельский, но главой правительства стал лидер католической фракции «Солидарности» Т.Мазовецкий. Уже в 1990-ом году он вывел из правительства всех бывших коммунистов, а в октябре в отставку ушел Ярузельский.
Избрание в 1990-ом году президентом страны Леха Валенсы положило конец почти полувековой эпохе Народной Польши.
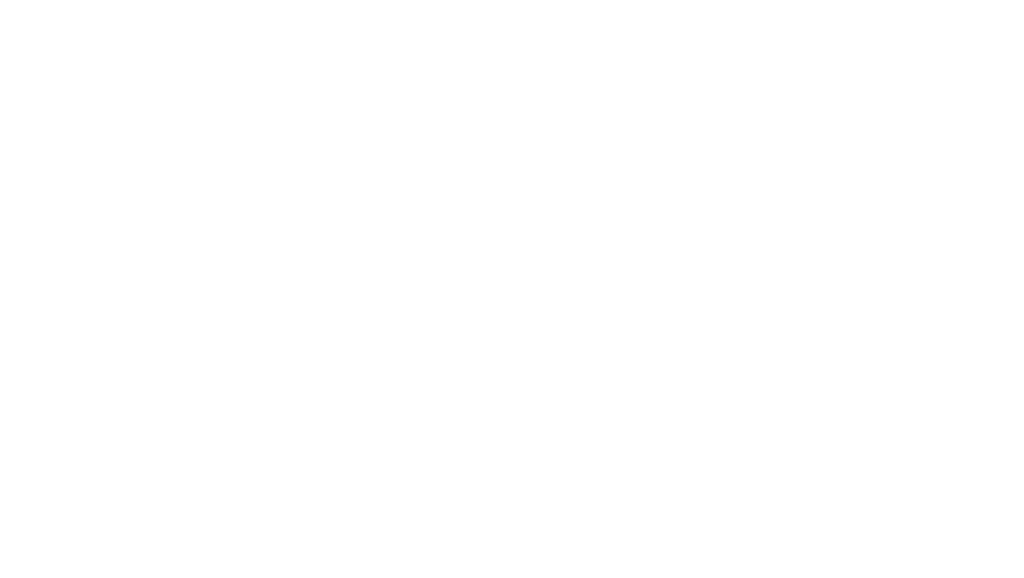
фото: inyourpocket.com
Заблуждения начали рассеиваться уже в начале 1950-ых, но переломным для большинства польских литераторов стал именно 1956 год.
В конце 1956-ого года досрочно собрался VII съезд Союза польских писателей. Съезд высказался за свободу художественного творчества, за отмену предварительной цензуры, за свободный доступ к достижениям западной литературы и контакты с эмиграцией.
Один из польских критиков того времени писал: «С Щецинского съезда началась эра посредственностей, литературной дешевки и политического террора. Откроет ли съезд писателей 1956 года эру шедевров или, по крайней мере, хороших книг? Это будет зависеть не только от самих писателей, но и от многих внешних обстоятельств» [11].
В течение последующих двадцати лет обстоятельства складывались для польской литературы не всегда благоприятно, и все же именно 1960-70-ые годы дали Польше немало оригинальных произведений и ярких имен. Как справедливо указывает Е.Мачеевски, «после 1956 года польский писатель уже мог быть и часто бывал партнером власти, а не ее исполнителем, как в эпоху соцреализма. А значит, мог создавать самобытные произведения, благодаря которым сегодня мы оцениваем период после 1956 года, как один из наиболее замечательных периодов польской литературы и культуры» [12].
В конце 1950-ых впервые после войны в Польше были изданы произведения западноевропейских и американских классиков: Пруста, Мориака, Камю, Сартра, Хемингуэя, Стейнбека, Фолкнера, Дос-Пассоса, Т.Манна, Сент-Экзюпери и др. Из советской литературы были опубликованы книги Бабеля, Пильняка, Булгакова, Эренбурга. На прилавки книжных магазинов вернулись ранее замалчиваемые произведения польских авторов межвоенного двадцатилетия – Ст.-И. Виткевича, М.Ваньковича, Б.Шульца, Б.Лесьмяна, М.Павликовской-Ясножевской, а реабилитация деятельности коммунистической партии Польши, распущенной Коминтерном в 1938 году, вернула польской литературе книги писателей-коммунистов, репрессированных и уничтоженных в СССР – Б.Ясенского, В.Вандурсокго, Г.Джевецкого.
В 1957 году в Варшаве вышел роман получившего мировую известность писателя эмиграции Витольда Гомбровича «Транс-Атлантика», (ранее опубликованный в Париже в 1953 году), и его драма «Венчание». Были переизданы его довоенные книги - «Фердидурка» и «Дневник периода созревания» под новым, измененным, названием «Бакакай». В 1957 году в Варшаве состоялась премьера пьесы «Ивона, принцесса Бургундская». Эти и другие, изданные много позднее книги Гомбровича, и в первую очередь его «Дневник» (1957-1966), оказали огромное влияние на формирование облика современной польской литературы, в т.ч. на Ежи Анджеевского и его роман «Месиво».
Польская проза после 1956 года начинает развиваться в нескольких направлениях: широко используется опыт мировой художественной литературы XX века, обогащается круг тем и мотивов, смелее – с разных точек зрения и разных идейных позиций – исследуется современная польская действительность, активно продолжаются поиски в сфере жанра и формы.
Одной из важнейших тенденций в польской прозе после 1956 года стало возвращение личностного начала в литературу, связанное с реституцией роли субъекта в историческом и познавательном процессе. В польской литературе осуществляется поворот от насаждавшегося в течение предшествующих лет изображения человека как «продукта истории» в сторону внимания к индивидуальным, неповторимым особенностям человеческой личности, признания в ней критерия смысла бытия. Польский критик М.Кисель характеризует это явление как «антропологический поворот» [13].
По мнению М.Киселя, возвращение личностного начала в литературу и искусство связано главным образом с влиянием философии экзистенциализма, которое испытала на себе польская проза после 1956 года. Провозглашенный экзистенциализмом «поворот к человеку», по мысли Киселя, «вернул интерес к творческой и свободной личности, осознающей себя, свое место в человеческом обществе и истории, ответственной за себя и чувствующей близкие связи с другими» [14].
Философия экзистенциализма в самых общих чертах была известна польской литературе и в довоенные годы, следы ее влияния можно найти в ранней прозе В.Гомбровича, Б.Шульца, Я.Ивашкевича. Не избежал влияния экзистенциализма в своем раннем творчестве и Ежи Анджеевский (заметнее всего это в романе «Лад сердца», речь о котором пойдет в следующей главе.
Во второй половине ХХ века интерес к философским открытиям Камю и Сартра, (а именно французская версия экзистенциализма получила в Польше наибольшее распространение), возрождается с небывалой силой. Известный польский критик С.Жулкевский писал в начале 1960-ых годов, что «только на почве экзистенциальных концепций можно решить философские проблемы индивида, его ситуации в мире» [15].
Подобный энтузиазм в отношении познавательных возможностей экзистенциализма отчасти можно объяснить потребностью польских писателей в обретении новой, устойчивой системы координат культуры, взамен прежней, перевернутой и стертой войной, отчасти – стремлением противопоставить доминирующей марксисткой философии большинстваальтернативную философию индивида, субъекта, вызволив тем самым личность из-под гнета идеологии.
Тенденция к восстановлению в правах человеческой личности отчетливо прослеживается в творчестве многих польских писателей этого периода, независимо от их непосредственных связей с экзистенциализмом. Как пишет В.Мачёнг, «последствием духовных открытий первого послевоенного десятилетия стало недоверие к программам, подчиняющим себе внутренний мир личности, отторжение всякого рода униформизма» [16].
В наибольшей степени тенденция к психологизации, а частично и интеллектуализации, прозы проявилась в творчестве писателей старшего поколения, чье мировоззрение и художественный почерк формировались еще в довоенные годы – Я.Ивашкевича, С.Дыгата Е.Анджеевского, хотя эффект «антропологического поворота» можно наблюдать и в прозе более молодых писателей – М.Хласко, М.Новаковского, М.Бялошевского.
В 1957 году Ярослав Ивашкевич издает рассказ «Взлет», в котором вступает в прямую полемику с Камю. Споря с автором «Падения», польский писатель утверждает, что отчаяние и духовная опустошенность не являются неизбежным уделом человека, но могут быть порождены обстоятельствами. Такая интерпретация экзистенциалистских концепций оставляла надежду на возрождение, «взлет» человека, способного одержать победу в споре с фатумом и Историей. В 1956-62 годах Ивашкевич создает главное дело своей жизни – трилогию «Хвала и слава», написанную в лучших традициях психологической прозы. В романе, который можно отнести к типу новой «субъективной» эпопеи, история и мир отражаются в зеркале личных переживаний автора и героев, не теряя при этом по истине эпической широты.
Ивашкевич успешно продолжил свою деятельность и как новеллист. В 1960-70-ые годы выходят из печати его сборники «Аир и другие рассказы» (1960), «Гейденрейх. Тени» (1964), «О псах, котах и чертях» (1968), «Сады» (1974), «Зарудье» (1976), в которых в полной мере воплотились отличительные черты ранней прозы писателя – лирико-философское видение мира и тончайший психологизм.
Вечные темы любви, жизни и смерти с присущим ей мастерством психологического анализа продолжала развивать в этот период и Мария Кунцевич, издавшая романы «Лесник» (1957), «Оливковый сад» (1961), «Тристан 1946» (1967). В романе «Тристан 1946» писательница обыгрывает знаменитый средневековый миф о Тристане и Изольде, где роль влюбленного Тристана отводится молодому поляку, воевавшему в рядах Армии Крайовой и после войны оказавшемуся в эмиграции в Лондоне. Его по-прежнему преследуют призраки и воспоминания военных лет, жизнь не складывается, и только любовь дает спасительный глоток надежды.
Интерес к человеку, его внутреннему миру и миру мелочей, его окружающих, характерен для прозы Станислава Дыгата, приобретшего популярность как автор фельетонов и эссе о жизни «заурядного человека» - «Ненастные вечера» (1957), «Розовая тетрадка» (1958), «Размышления во время бритья» (1959), «За пять минут до сна» (1960). В своих романах 1960-70-ых годов – «Путешествие» (1958), «Диснейленд» (1965), «Карнавал» (1969), «Мюнхенский вокзал» (1973) – Дыгат продолжил лирико-ироническое «путешествие» по внутреннему миру героев, их наивным заблуждениям и обманутым надеждам. Наиболее показателен в этом плане роман «Диснейленд», в котором образ созданной Диснеем страны детских грез и сказок становится сквозной метафорой всей жизни героя.
Крутой поворот произошел в 1960-ые годы в творческой биографии Тадеуша Конвицкого. Широко известный, благодаря своему «производственной» повести «На стройке» (1950), Конвицкий в 1959 году пишет роман «Дыра в небе», в котором с трепетом и ностальгией воспроизводит атмосферу своего детства на Виленщине. Окружающий мир, его конфликты и противоречия, представлены в романе с перспективы главного героя – деревенского мальчишки, который еще только открывает для себя всю сложность жизни. Этот прием не раз встречается у Конвицкого и в последующие годы: в романах «Зверочеловекоупырь» (1969) и «Хроника любовных происшествий» (1974) писатель вновь обращается к воспоминаниям поры детства и юности, изображая действительность глазами юного героя, еще не окончательного в своих переживаниях и оценках.
Близок Конвицкому оказывается и Вильгельм Мах, который в своем романе «Жизнь большая и малая» (1959) глазами ребенка наблюдает за жизнью послевоенной польской деревни на востоке страны.
Модель виденья мира с перспективы юного героя – подростка или ребенка – характеризует многие произведения этого периода. К ней с успехом прибегают Я.Бжехва («Когда созревает плод», 1958), Л.Гомолицкий («Бегство», 1959), В.Жукровский («Крохи свадебного торта», 1959), К.Филиппович (сборник рассказов «Белая птица», 1960), М.Яструн («Прекрасная болезнь», 1961), А.Кусьневич («Третье королевство», 1975), Е.Стрыйковский («Сон Азрила», 1975) и др. Именно глазами подростка, растерянного и напуганного, фиксирует трагические события варшавского восстания Мирон Бялошевский в своем знаменитом романе-хронике «Дневник варшавского восстания» (1970).
Тяготение литературы к мотиву инициации – вступления, «посвящения» во взрослую жизнь – как правило, характеризует моменты исторического перелома, сопровождающегося генеральной верификацией взглядов [17]. По мнению И.Адельгейм, «психологически это объяснимо – ведь благоприятные условия для такой прозы создает сама новая действительность, превращающая человека в “ребенка” и заставляющая его заново учиться ориентироваться в стремительно меняющейся жизни» [18].
Мотив инициации дает писателю возможность «отстроиться» от прежнего знания о мире, взглянуть на жизнь незамутненным, «незашоренным» взглядом. Говоря словами В.Хорева, «таким путем писатели стремятся утвердить ценность личного жизненного опыта человека и его духовного мира, показать преломление жизненных конфликтов в доверчивом и непосредственном, хотя иногда необычайно прозорливом, восприятии ребенка, не ведающего о скрытых жизненных пружинах действительности» [19].
1956 год привнес в польскую литературу и культуру ряд существенных демократических преобразований, в числе которых – принцип децентрализации, проявившийся в эскалации интереса к периферийным (и до сих пор замалчиваемым) сферам жизни: быту городских низов и окраин, жизни провинции (в частности польских «кресов»), деталям будничной повседневности.
Новая проблематика вошла в польскую прозу вместе с молодым поколением писателей, дебютировавших в середине 1950-ых годов: С.Гроховяк, В.Терлецкий, А.Минковский, М.Хласко, И.Иредыньский, М.Новаковский и др. Их главной трибуной стал журнал «Вспулчесность» (отсюда название «поколение “Вспулчесности”» или «поколение’56»).
Общим для молодых авторов было стремление противопоставить лакировочной соцреалистической литературе 1950-ых, «зацикленной» на пропаганде производственных достижений и успехов, новое виденье мира, в котором есть место как незначительным, мелким, повседневным так и трагически-мрачным сторонам действительности. Как пишет В.А.Хорев, в прозе дебютантов «схема недавнего производственного романа выворачивалась наизнанку. Труд, изображавшийся ранее как призвание и источник радости, в этой прозе становился некой враждебной силой, а жизнь ее героев – жертвоприношением» [20].
Творчество большинства молодых авторов развивалось под явным влиянием литературы французского экзистенциализма, из которой они черпали настроение катастрофизма, жесты отчаянья и внутренний надрыв своих героев – юных бунтовщиков, маргиналов, отщепенцев.
Один из наиболее ярких и самобытных авторов «поколения’56» Марек Хласко уже в эмиграции (Хласко выехал во Францию в 1958 году, после чего был заклеймен как «предатель» и лишен польского гражданства) заявлял, вспоминая время своего дебюта: «Я верю в бунт, верю в бунт как исходный пункт для поиска своего места в жизни и в обществе. Верю в бунт как важнейшую ценность молодости. Верю в бунт как наивысшую форму ненависти к террору, притеснению и несправедливости и верю в то, что не бывает бунта без цели <…>. А бунт не бывает справедливым, т.к. несправедлив мир, в котором зарождается бунт» [21].
В середине 1950-ых годов творчество Хласко и его последователей сформировало в польской литературе так называемую «черную прозу». Сам Хласко признавался, что единственное, о чем он умеет писать, это «преступление, отчаяние и тому подобные вещи» [22]. Обнажая самые мрачные, «черные», беспросветные стороны жизни, Хласко, говоря словами М.Стемпеня, «демонстрировал отсутствие ценностей там, где жаждал их обрести» [23]. Герои его ранних рассказов из сборника «Первый шаг в облаках» (1956) и повести «Восьмой день недели» (1956, экранизирована в 1957 году А.Фордом) – это люди, оказавшиеся на грани или за гранью отчаянья. На глазах читателя из их жизни ускользает последний шанс на надежду.
Персонажи более поздних, изданных в эмиграции книг Хласко («Кладбища. Следующий в рай», 1958, «В день смерти его», 1962, «Обращенный в Яффе», 1966, «Расскажу Вам про Эстер», 1966 и др.) – это главным образом неприкаянные и бездомные. Безысходное положение, в котором они оказываются, обусловлено скорее не обстоятельствами и выпавшими на их долю жизненными трудностями, а сложными, тяжелыми характерами и странными, словно перевернутыми представлениями о долге и чести, верности и любви. Произведения писателя буквально пронизаны ожиданием неминуемой катастрофы, которая неизменно наступает. Наступила она и для самого Хласко, трагически ушедшего из жизни в 1969 году в возрасте 35 лет. Его произведения, написанные в эмиграции, были опубликованы в Польше только в 1980-ых годах.
Драматическое переживание мира отличало и прозу другого заметного представителя нового поколения прозаиков – Марека Новаковского. В сборниках рассказов и повестях («Этот старый вор», 1958, «Трамплин», 1964, «Запись», 1965, «Бег», 1967 и др.) Новаковский создал выразительный и внутренне напряженный образ «человека с окраин» (главным образом – варшавского предместья), живущего в разладе с самим собой, обществом и его законами.
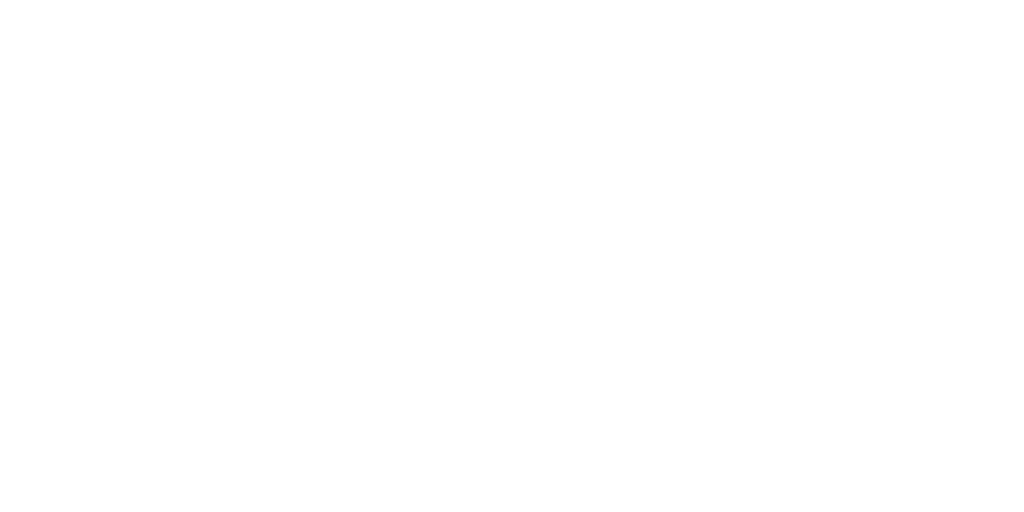
фото: culture.pl
Несмотря на некоторые очевидные слабости и просчеты, творчество молодых писателей из круга «малого реализма», как и авторов «черной прозы», привнесло в польскую литературу немало новых важных наблюдений и закрепило ряд значительных демократических завоеваний рубежа 1956-60-ых годов. В их числе – стремление к подлинности изображения, интерес к не-центральным, периферийным сторонам жизни, отказ от декларативности и многое другое. Но главное, чего доились молодые авторы, это, говоря словами российского исследователя современной литературы Марка Липовецкого, «разрушение централизованной структуры культурных коммуникаций, перемещение акцентов на табуированные прежде маргинальные темы и формы («чернуха», «андерграунд», эротическое искусство, обсценный язык), легитимация целых сфер культуры, насильственно выведенных за ее пределы <…>, что свидетельствует о размывании иерархических дискурсов и вызревании нового, неиерархического мироощущения». Именно это мироощущение будет лежать в основе литературы последующих десятилетий [25].
События 1956-ого открыли перед польскими литераторами неограниченные возможности для разносторонней оценки современной действительности и одновременно с тем поставили перед необходимостью критически оценить собственное прошлое, проанализировать мотивы, заставлявшие еще недавно подчиняться навязываемым доктринерским установкам.
У многих польских писателей, еще недавно яро поддерживавших социалистический строй и проявлявших особое рвение в реализации программы щецинского съезда (в их числе был и Ежи Анджеевский), как бы «спала пелена с глаз», наступило прозрение, заставившее в корне пересмотреть свои идейные позиции.
Знаменитый польский критик Анджей Кийовский писал в 1956 году: «Рухнул миф о необходимости и разумном характере нашей общественной действительности. Оказалось, что исторические процессы являются результатом не только детерминантов, смысл которых не подлежит моральной и сущностной оценке. Оказалось, что в историческом процессе немалую роль играют ошибки, злая воля, лицемерие, дегенерация, т.е. факторы сугубо человеческие, подлежащие моральной квалификации, преодолимые, шаткие» [26].
На фоне этих открытий одной из наиболее частых тем в польской прозе рубежа 1956-60-ых годов стала «критика действительности» (формулировка М.Киселя), а именно критика существующей (или до недавних пор существовавшей) идеологии и системы управления страной. Вокруг этой темы концентрировалась так называемая «литература расчета», пик расцвета которой приходится на 1956-57 годы, (хотя традиции этой прозы будут продолжены и значительно позже).
«Литература расчета» объединяет произведения, в которых польские писатели пытались определить свое отношение к вскрытым «извращениям» в общественной и культурной жизни страны, объяснить читателю и самим себе причины явления, которое Чеслав Милош с присущей ему прозорливостью назвал «порабощением разума» (книга с таким названием была опубликована в 1953 году в Париже).
Одним из первых примеров произведений, созданных в русле «литературы расчета», стала опубликованная в 1956 году в журнале «Твурчость» новелла К.Брандыса «Защита Гренады». Позже Брандыс продолжил тематику сведения счетов с совестью в ставшем легендарным (в немалой степени благодаря блестящей экранизации Я.Заорского) романе «Мать Крулей» (1957), где показал преступления сталинской системы против слепо верящих в идеи социализма польских коммунистов.
Эмоциональным, хотя нередко поверхностным «расчетам» с собственным прошлым посвящены появившиеся на рубеже 1956-60-ых годов произведения А.Брауна («Мощеный ад», 1957), А.Сцибора-Рыльского («Саргассово поре», 1956, «Черные стены», 1958), В.Ворошильского («Жестокая звезда», 1958), Л.Кручковского («Очерки из ада честных», 1963) и др. Все эти писатели сами пережили период неофитского увлечения идеями щецинского съезда и в своих произведениях начала 1960-ых годов искали оправдания и объяснения своим недавним заблуждениям.
Теме расчетов с пошлым посвящены и два романа Ежи Анджевского: «Мрак покрывает землю» (1957) и «Врата рая» (1960), которым посвящены, соответственно, 3-я и 4-я главы настоящей работы.
«Литература расчета», хотя по справедливому замечанию В.А. Хорева, и не дала «глубокого анализа вчерашнего дня жизни страны, сыграла свою очищающую роль, обратив внимание на проявления зла, насилия, ущемления прав личности в государстве, извращавшем гуманистические принципы человеческого общежития» [27].
Уже в начале 1960-ых годов цензура наложила запрет на тематику «литературы расчета»: новые произведения перестали допускаться к печати, ранее опубликованные – не переиздавались и изымались из собраний сочинений авторов. Однако, как замечает З.Яросиньский, «творческая интеллигенция отдавала себе отчет, что проблема сталинизма далеко не исчерпана, т.к. следы, которые он оставил в коллективной памяти польского народа, глубоки и до сих пор живы» [28].
На протяжении последующих лет польская проза не раз возвращалась к теме «расчетов» с прошлым и, несмотря на активные препятствия цензуры, продолжала исследовать опыт тоталитаризма и его калечащего влияния на психику и судьбы общества.
Одним из способов преодоления цензурных запретов стало уже опробованное в более ранние периоды использование разного рода иносказательных поэтик («исторического костюма», «географического псевдонима», «эзопова языка» и т.п.).
Яцек Бохеньский в романе «Божественный Юлий. Записки антиквара» (1961) реконструирует историю борьбы за власть и становления культа личности на материале Древнего Рима. Аналогичную направленность имел и его роман об Овидии «Назон – поэт» (1969), в центре которого – универсальный конфликт между творческой личностью и политической властью.
Как и у Бохеньского, притчевый характер носит роман Анджея Щиперского «Месса по городу Аррас» (1971), действие которого разворачивается в ХV веке. Написанный по следам мартовских событий 1968 года, роман Щиперского через воссоздание бед и несчастий, внезапно обрушившихся на средневековый город, возвращал читателя к экзистенциальным проблемам толерантности, гуманизма, необходимости нести ответственность за свои поступки и мысли.
Наравне с «параболической исторической прозой иносказаний и намеков» [29] в 1960-70-ые годы в Польше широко развивается и традиционный исторический роман, представленный творчеством Т.Парницкого, Х.Малевской, А.Кусьневича, В.Терлецкого. Обращение к загадкам истории, поиск ускользающей и веками искажавшейся исторической правды, исследование имманентных законов исторического развития позволяли польским писателям глубже понять причины и следствия современной действительности, давали новые пути для ее осмысления.
И все же к концу 1970-ых годов становится очевидно, что ни осторожных аллюзий исторической прозы, ни прямолинейных обвинений «литературы расчета» для анализа и независимого критического осмысления действительности недостаточно. События 1960-70-ых годов сформировали особые требования к литературе как к одному из основных средств влияния на общественное сознание нации. Выполнять эти требования могла только литература, свободная от цензурного гнета и контроля государственных печатных органов. Потребность «называть вещи своими именами» привела к появлению в конце 1970-ых годов так называемой литературы «второго круга обращения», издававшейся и распространявшейся неофициально.
В 1977 году в нелегальном издательстве «Нова» был опубликован роман Тадеуша Конвицкого «Польский комплекс» (официально переиздан в Польше в 1987), а два года спустя в Лондоне вышел его роман «Малый апокалипсис», в 1978-79 годах переживший в Польше 8 подпольных переизданий. В этих книгах Конвицкий со свойственной ему иронической интонацией поднимает чрезвычайно болезненные для всего польского народа проблемы: подчиненность Польши СССР (символом которой для Конвицкого становится здание Дворца Культуры и Науки в Варшаве – точная копия знаменитых сталинских высоток в Москве), потеря внутренней аутентичности польского общества, искажение самосознания поляков – его зависимость от традиционных «польских комплексов», иллюзий, заблуждений и мифов.
Попытку «осуществить давнюю мечту критики: написать большой роман о современном обществе» предпринимает на рубеже 1960-70-ых годов и Ежи Анджеевский. В середине 1960-ых годов писатель приступает к работе над новой книгой - романом «Месиво», посвященном проблемам современной польской интеллигенции и ее непростым отношениям с правящей властью. Роман был нелегально издан в Польше в 1979 году, а его официальное переиздание стало возможно только в 1983 (подробнее об этом – в Главе 6).
Роман «Месиво» – характерный пример не только идеологического, но и эстетического бунта, под знаком которого развивалась польская литература после 1956 года. К началу 1960-ых годов польские писатели, хотя бы отчасти, отвоевали себе право на художественный эксперимент, а насаждавшаяся в течение последних нескольких лет унификация литературного творчества «по образу и подобию» социалистического реализма уступила место множеству индивидуальных поэтик.
Наиболее существенные преобразования произошли в сфере жанра и стиля, где со временем сформировалась качественно новая система, основанная на принципах синкретизма, открытости текста и множественности интерпретаций. В 1960-ые годы, как пишет М.Кисель, «критик-идеолог уступил место критику-модератору, идеологическая доктрина была заменена системой художественных доктрин» [30].
Процесс пересмотра и реформации жанровой парадигмы затронул польскую прозу уже в первые послевоенные годы. События военных лет дискредитировали в глазах польских писателей до сих пор существовавшие принципы построения художественного текста и законы литературного творчества в целом, под сомнение была поставлена сама пригодность жанра традиционного романа (с фабулой и рассказчиком) для раскрытия новой проблематики. В 1945 году А.Рудницкий писал: «Все мы, кто любил искусство, почувствовали себя обманутыми. Искусство учило нас уважать человека и преклоняться перед богатством его внутреннего мира. А что мы видели? Мир, в котором из людей делали мыло, а из девичьих волос – матрасы, мир такой, что не хватало слов, чтобы описать его» [31].
Ощущение ложности и недостаточности прежних, как реалистических, так и авангардистских, литературных конвенций вынуждало польских писателей к поискам новых художественных приемов и форм, способных адекватно передать ощущение мира, в котором «люди людям уготовили эту судьбу» [32].
Знаменательным явлением литературного процесса в послевоенной Польше стало преобладание разнообразных парабеллетристических жанров: дневника, воспоминаний, эссе, репортажа, хроники и других разновидностей «литературы факта». По мысли В.А.Хорева, «документальная основа многих прозаических произведений означала не хроникерскую точность в передаче фактов и событий, а установку писателей на их подлинность, на восприятие их читателями как полностью достоверных» [33]. В ситуации, когда неотвратимая историческая реальность многократно превосходила возможности, казалось бы, самого изощренного художественного вымысла, многие польские писатели предпочли отказ от беллетризации прозы в пользу подчеркнутой документарности и автобиографизма.
В 1960-70-ые годы в Польше появляются многочисленные прижизненные публикации дневников и воспоминаний писателей: Е.Путрамент «Пол века» (5 томов, 1961-1970), Т.Кудлиньский «Столица моей молодости» (1970), М.Бялошевский «Доносы действительности» (1973), М.Кунцевич «Фантомы» (1971), «Натура» (1975), М.Хороманьский «Мемуары» (1976), З.Жакевич «Интимнчй дневник моего N.N.» (1977), Р. Братный «Дневник моих книг» (1978-1983). В виде регулярного фельетона в прессе публикует свой дневник Ежи Анджеевский. Позже эти заметки будут изданы одной книгой: «Изо дня в день. Литературный дневник 1972-1979».
В 1970 году была издана часть дневника Зофьи Налковской «Дневник военных лет», близкая по жанру к автобиографическому роману. В дальнейшем, в 1975-88 годах были опубликованы еще четыре тома «Дневника» Налковской, охватывающие жизненный и творческий путь писательницы с 1899 по 1939 годы.
Некоторые писатели сознательно придают своим художественным произведениям форму хроники, дневника с элементами репортажа, воспоминаний. Так поступает Тадеуш Бреза в романах «Лабиринт» (1960) и «Бронзовые врата» (1960). Его книги во многом стали результатом многолетнего пребывания на дипломатической службе в Риме. Писатель тщательно и подробно исследует механизм действий и взаимоотношений внутри Ватикана, который предстает как бездушная бюрократическая машина, штампующая людей с одинаковой идеологией и психологией.
Из множества разнообразных пседодокументов (дневниковых заметок, протоколов, писем, газетных вырезок), создающих иллюзию правдоподобия, «монтирует» свой роман «Личность» (1974) Тадеуш Холуй. Его главный герой – деятель польского Движения Сопротивления Вацлав Потурецкий (подразумевается известный польский критик Игнаций Фик, казненный фашистами).
На рубеже 1960-70-ых годов интерес польских писателей к парабеллетристике и разного рода «невымышленной литературе» (antyfikcja) возрастает благодаря затронувшему Польшу общеевропейскому ощущению исчерпанности тем и средств традиционной прозы, «усталости от фабулы» (термин Е.Кандзёры), близкой смерти романа. Одна из крупнейших польских писательниц ХХ века Мария Домбровская в дневнике-приложении к своей последней книге «Приключения мыслящего человека» (1970) сокрушалась: «Форма романа мне опротивела – другой выдумать не могу, никому не перепрыгнуть через себя» [34].
В результате колебаний жанровой нормы в польской прозе 1960-70-х годов появляется ряд художественных текстов, сочетающих в себе элементы различных прозаических видов и форм: дневника, эссе, беллетризованных воспоминаний. Причем польские писатели не просто отходят от традиционного сюжетного повествования в пользу усиления личностного начала, но сознательно вводят в классическую автобиографическую прозу элементы пародии, вымысла, литературной игры: Т.Ружевич «Приготовления к авторскому вечеру» (1971), А.Рудницкий «Голубые странички» (1957), Т.Конвицкий «Календарь и клепсидра» (1976), «Восходы и заходы Луны» (1982).
Польский критик Рышард Ныч предложил для жанровой классификации произведений такого рода термин «сильва» (от латинского silva rerum – лес вещей). В старопольской шляхетской культуре сильвами назывались рукописные семейные книги (księgi domowe), особенно популярные в литературе сарматского барокко. В них записывались домашние события, расходы, кулинарные рецепты, заметки о погоде, воспоминания, молитвы, истории религиозного и нравоучительного содержания и многое другое.
Современные польские сильвы, согласно Нычу, также сочетают в себе элементы различных поэтик, разнообразные стили и стилизации, аллюзии и цитаты и отличаются «интенсивностью и явственностью интертекстуальных связей и сознательным включением индивидуального высказывания в интертекстуальный диалог» [35].
В основе польских сильв лежит, как правило, метафикциональное повествование, опирающееся на принципы автотематизма, т.е. «проза о прозе» в которой, помимо прочего, речь идет о самой литературе, о принципах и способах создания («выделки») художественного текста и о творческом процессе, понимаемом как неотъемлемая часть жизни.
Подобно произведениям французского noue roman или большинства постмодернистских текстов польские сильвы релятивизируют творческий процесс, подрывают сам статус художественного вымысла через посягновение на такие до сих пор неприкосновенные его атрибуты, как самодовлеющий характер созданного в произведении мира и внеположность автора этому миру. По мнению М.Черминьской [36], одним из импульсов к возрождению в польской литературе 1970-80-ых годов интереса к автотематической прозе послужило переиздание в 1976 году знаменитой «Химеры» (1903) Кароля Ижиковского – экспериментального психологического романа эпохи Молодой Польши, почти на четверть века опередившего крупнейшие открытия европейской литературы ХХ века (в том числе метапрозу и фрейдизм)[37].
Ижиковский, приобретший известность и признание в первую очередь как выдающийся литературный критик, в своем единственном значительном художественном произведении впервые сформулировал концепцию автотематичского романа и построил в соответствии с ней текст своей книги. Этот метод был с энтузиазмом воспринят и нашел достойное продолжение в творчестве выдающихся польских писателей второй половины ХХ века – В.Гомбровича, Т.Парницкого, В.Маха, Т.Конвицкого, Е.Анджеевского, а также в литературе 1990-ых годов.
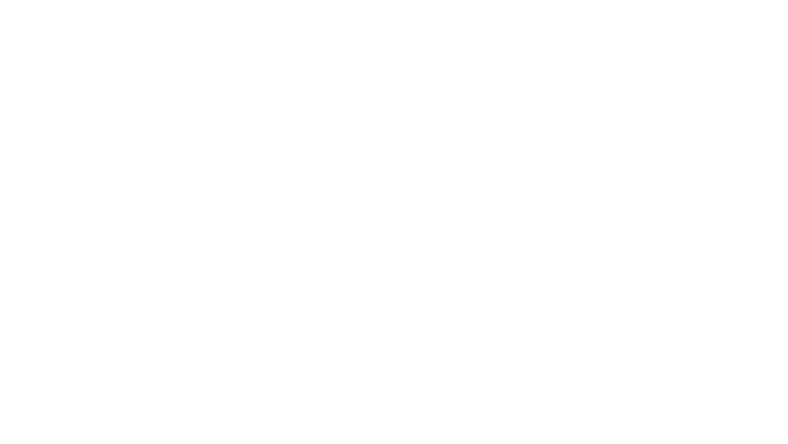
фото: kultura.onet.pl
Если в 1960-80-ые годы смыслом существования литературы было исторически оправданное требования ее участия в общественной и политической жизни страны, то к началу 1990-ых годов литература перестает играть роль исключительного морального авторитета и инструмента борьбы за национальные идеи. Главное же изменение, произошедшее в польской литературе после 1989 года, как замечает И.Адельгейм, это «осознание недостаточности “польскости” как критерия самоидентификации» [39].
Одновременно с этим в литературу вступило новое поколение писателей, так называемое «поколение 1960»: А.Стасюк, О.Токарчук, И.Филипяк, Н.Герке, П.Шевц. Тогда же состоялся поздний дебют писателей чуть старше (М.Беньчик, С.Хвин, Е.Пильх, М.Тулли), и открылось «второе дыхание» у дебютантов 1980-ых годов (М.Буковский, А.Юревич, Г.Мусял). На рубеже 1980-ых годов ушли из жизни писатели, определявшие облик послевоенной польской прозы: в 1983 году – Я.Ивашкевич, М.Яструн, Е.Анджеевский, М.Бялошевский, в 1987 – И.Неверли, в 1988 – Б.Чешко, в 1990 – К.Филипович, А.Рудницкий, в 1991 – Т.Новак.
Новое поколение писателей, свободное от обязательств служения патриотическим идеалам и отчасти противопоставившее себя им, столкнулось с необходимостью выработки нового литературного языка взамен прежнего – «романтического», десятилетиями формировавшегося в герметичном пространстве политической несвободы и исчерпавшего себя вместе с осуществлением давней мечты о полной государственной независимости.
В поисках адекватных средств выражения и новых форм контакта с читателем молодые польские авторы охотнее обращаются к опыту иностранных писателей (Х.Кортасара, Х.-Л.Борхеса, Д.Фаулза, Д.Джойса, У.Эко, П.Зюскинда, К.Воннегута), обещающему наиболее быстрое расширение культурного пространства, нежели к польской традиции, в отношении которой наблюдается «сильная и торопливая эмоция отталкивания» [40].
В ходе обновления языкового материала происходит ироническое переосмысление и демифологизация традиционных для польской литературы сюжетов: развенчанию подвергается миф «героического эмигранта» (Э.Редлиньски «Крысополяки», 1994, Я.Рудницкий «Жить можно», 1984, изд.1992, П.Семен «Низкие луга», 2000) и «поляка-патриота» (Я.Андерманн «Тюремная болезнь», 1992, Я.Качмарский «Автопортрет с канальей», 1994); по-новому прочитывается и лингвистически «излечивается» знаменитый «польский комплекс» (Т.Конвицкий «Чтиво», 1992, Е.Пильх «Заговор прелюбодеек», 1993).
Новая польская проза в большинстве своем отказывается от широко понимаемого историзма, отличавшего литературу предшествовавших десятилетий, противопоставляя ему универсальный опыт личностных переживаний, отношений, столкновений с миром. Этим отчасти объясняется тяготение к автобиографизму и повествованию от первого лица (М.Гретковская «Myzdes’ emigranty», 1991, Т.Трызна «Панна Никто», 1994, И.Филипяк «Полная амнезия», 1995), а также форме романа-инициации, которая возрождается в текстах П.Хюлле «Вайзер Давидек» (1993), А.Юревич «Лида» (1990), Ю.Корнхаузер «Дом, сон и детские игры» (1995).
Своеобразной формой бегства от истории (а по мысли П.Чаплиньского, и от современности [41]) в прозе 1990-ых годов становится широко разрабатываемая тематика «малой родины» - мифологизированной, сохраненной в детских воспоминаниях или просто придуманной страны, которая «в каждом своем фрагменте наполнена смыслом, <…>, знакома до последнего уголка, приветлива к людям и жизни, дарит гармонию и примиряет человека с природой, родная и возвышенная» [42]. Такова виленская Бохинь Т.Конвицкого, Замостье в романах П.Шевца, Гданьск для С.Хвина и П.Хюлле, Вроцлав у А.Завады, бескидские деревни в Галицийских повестях А.Стасюка, Сандомир у В.Мысливского, фантастический Правек у О.Токарчук.
В обращении к тематике «малой родины», а также в декларативном продолжении разного рода традиционалистских поэтик (католической, авангардистской), заставляющем читателей пересмотреть свои прежние о них представления, современные литературные критики нередко усматривают проявления постмодернизма, устоявшийся понятийный язык которого молодые польские авторы активно осваивают для передачи нового для себя культурного и психологического опыта.
Как пишет критик и историк литературы К.Униловский, «идея “малой родины” по существу является одной из множества постмодернистских концепций. Безусловно, эта концепция сильно отличается от теории и искусства, вдохновленных французской философией отличий или неопрагматизмом Ричарда Рорти, но, так или иначе, она исходит из аналогичных предпосылок» [43].
Массовое «открытие» постмодернизма в Польше приходится на конец 1980-ых годов, хотя сам термин [44] был известен в стране и раньше, но употреблялся в узко ограниченном контексте (главным образом в связи с творчеством современных американских писателей – Д.Барта, Р.Кувера, Т.Пинчона, Г.Метьюза и др.). По замечанию К.Униловского, «никому тогда в голову не пришло “растянуть” этот термин на другие национальные литературы, не говоря уже о своей родной. Словом, постмодернизм считался явлением типично американским» [45].
После отмены «железного занавеса» в 1989 году стало очевидно, что постмодернизм охватывает далеко не только область англоязычных литературных экспериментов, но в равной степени приложим ко многим другим видам искусства – музыке, живописи, архитектуре, а также ряду гуманитарных наук, таких, как философия, психология, социология и т.п.
Одновременно с этим ошеломительный международный успех про-постмодернистской прозы серба Милорада Павича, который в 1989 году претендовал на Нобелевскую премию в области литературы, и «французского чеха» Милана Кундеры, доказал возможность (и продуктивность) существования постмодернизма на славянских землях [46].
В посткоммунистической Польше новая – постмодернистская – парадигма художественности для многих стала символом новой эпохи, что, по справедливому замечанию И.Адельгейм, вполне объяснимо: «Политические перемены неизбежно ассоциировались с эстетическими и художественными новациями. Новая эпоха не могла остаться безымянной, а поскольку в области политики имени для нее не нашлось, его дало искусство» [47].
На волне всеобщего ажиотажа, подогреваемого типичной для Польши рубежа 1980-90-ых годов «жаждой литературной сенсации», постмодернистским, или даже более того – «первым постмодернистским» романом объявлялось едва ли не каждое второе произведение [48].
Тогда же были предприняты первые попытки экстраполировать эстетические установки постмодернизма на межвоенное творчество Ст.И.Виткевича, В.Гомбровича, Б.Шульца и других писателей более раннего поколения.
В польской критике началась дискуссия вокруг проблемы постмодернизма. Серьезные споры и разногласия вызвал сам термин «постмодернизм», воспринимавшийся с некоторой настороженностью хотя бы в силу того, что понятие «модернизм» в польском и западноевропейском литературоведении отчасти различно [49].
Я.Клейноцкий подмечает, что «если на практике постмодернизм был принят, то термин, попавший в самую гущу идеологических дискуссий начала 1990-ых годов, стал синонимом чего-то подозрительного» [50]. До сих пор, несмотря на значительно поутихшие споры и заметный спад ажиотажа вокруг проблемы постмодернизма, К.Униловский не без иронии предупреждает: «Если вы хотите рекомендовать вниманию общественности творчество какого-либо художника, постарайтесь с самого начала оградить его от любых подозрений в связях с постмодернизмом. Это слово попросту вызывает плохие ассоциации» [51].
Между тем, большинство современных ученых разных стран склоняется к мысли, что специфически постмодернистские теории непознаваемости природы и истории, исчерпанности онтологии, в рамках которой реальность могла подвергаться насильственному преображению, отказа от попыток систематизации и модернизации мира, оформившиеся на Западе только к началу 1980-ых годов, значительно раньше – пусть в спонтанной и не до конца осознанной форме – были выражены в текстах именно авторов стран Восточной Европы. Славянские писатели ранее и полнее других столкнулись с жестоким абсурдом тоталитарных прокоммунистических утопий, осознали их угрозу и были вынуждены ей противостоять.
По мнению М.Липовецкого, «именно эпоха тоталитарных режимов, возросших на абсолютизации модернистского утопизма, нанесла решающий удар всей идеологической структуре modernity» [52].
Согласно парадоксальной мысли другого российского исследователя постмодернизма М.Эпштейна, «то, что оказалось новостью для Запада и стало обсуждаться в 1970-80-ые годы: вездесущесть симулякров, самодовлеющее бытие знаковых систем, заслоняющих и заменяющих мир означаемых, – в России существовало, по крайней мере, с петровского времени. Истоки российской “гиперреальности” могут быть найдены в процессе быстрого усвоения чуждых ей форм западной культуры – в том, что Освальд Шпенглер обозначил термином “псевдоморфоза”» [53]. С определенными допущениями мысль М.Эпштейна можно отнести и к социокультурной ситуации Польши, чья история развивалась в плотном взаимодействии и взаимовлиянии с СССР и Россией.
В одной из своих работ [54] К.Униловский указывает, что первые собственно постмодренистские тексты появились в Польше еще на рубеже 1970-80-ых годов (в их числе, например, «Cigi de Montbazon» (1979) А.Ульмана,), но в силу неблагоприятных для себя обстоятельств, (внимание и симпатии читателей и критиков того времени были главным образом на стороне литературы «второго круга обращения»), долгое время оставались незамеченными [55].
В настоящее время литература и литературная критика возвращают должное этим текстам, а вместе с ними и творчеству выдающихся «провозвестников польского постмодернизма» [56](В.Гомбровича, Т.Парницкого, Е.Анджеевского, С.Лема), в чьих книгах впервые оформились те черты кризисного ощущения и переживания мира, которые (со свойственной им поэтикой) главным образом отличают постмодернистскую модель литературы.
[1] Zawada A. Literackie półwiecze 1939−1989. Wrocław, 2001. S.85.
[2] Подробнее об истории создания и запрета ежемесячника «Европа» см: Jacek G. Śladami «Europy» (Z historii czasopism literackich przełomu październikowego) // Przełomy: Rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej (pod red. W. Wójcika). Katowice, 1996.
[3] См. об этом подробнее: Zawada A. Op.cit. S.87−90.
[4] Цит. по: Potkaj T. Czyściec mój będzie trwał długo // Tygodnik Powszechny, №16 (2806), 20.04.2003.
[5] Цит. по: Bikont A., Szczęsna J. Towarzysze nieudanych podróży. Literatura i miazga // Gazeta Wyborcza, 6−7.05.2000.
[6] Редактор парижской культуры Зыгмунт Хертц в письме к находившемуся в эмиграции Чеславу Милошу так прокомментировал это выступление Анджеевского: «Предельное мужество для той ситуации. Я в восхищении. То, что он делает, для меня удивительно и поразительно. Нельзя сказать, что это человек без воображения, что он действует импульсивно или ради бахвальства. <…> а ведь мы оба знаем его личную жизнь — идеальную для шантажа». Здесь Хертц, скорее всего, намекает на гомосексуальность Анджеевского — прим. автора диссертации. (См. об этом подробнее: Bikont A., Szczęsna J. Op.cit.).
[7] ПАП – Польское агентство печати (PAP – Polska Аgencja Рrasowa).
[8] Цит. по: Bikont A., Szczęsna J. Op.cit.
[9] В названии журнала содержится игра слов: «Запис» – это и документальное свидетельство, документальная запись и вместе с тем то, что не пропущено цензурой, на что наложен запрет. См. об этом подробнее: Цыбенко Е.З. Роман Ежи Анджеевского «Месиво» и польская «возвращенная литература» // Славяноведение, 1995, №5.
[10] Хорев В.А. Польская литература // История литератур Восточной Европы после II второй мировой войны (коллективн. работа под ред. Шерлаимовой С.А., Хорева В.А. (ответств. ред.), Ильиной Г.Я.). Т.1. М., 1995. С.121.[11] Rogalski A. Refleksje po Zieździe Pisarzy // Kierunki, 1956, №31.
[12] Maciejewski J. Systematyka prozy polskiej ostatnich lat dwunastu // Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemeckich. Lipsk, 1993. S23.
[13] Kisiel M. Dialektyka przełomu 1955-59 w literaturze polskiej // Przełomy: Rok 1956…. S.26.
[14] Ibidem.
[15] Żółkiewski S. Przepowiednie i wspomnienia. Warszawa, 1963. S.194.
[16] Maciąg W. Literatura Polski Ludowej 1944-1964. Warszawa, 1974. S.99.
[17] «Вторая волна» моды на обращение к теме детства и отрочества как главного жизненного опыта авторов в польской литературе приходится на перепелом начала 1990-ых годов, когда частотность фабулы, построенной на мотиве инициации, приводит к появлению в польском литературоведении самого термина «роман инициации». Среди многочисленных романов этого типа, созданных в 1990-ые годы можно назвать: П.Хюлле «Вайзер Давидек» (1987), «Первая любовь и другие рассказы» (1996); С.Хвин «Короткая история одной шутки» (1991), А.Юревич «Лида» (1990), «Господь глухих не слышит» (1995); Ю.Корнхаузер «Дом, сон и детские игры» (1995) и др. См об этом подробнее: Адельгейм И. Поэтика польской прозы 1990-ых годов: гипноз постмодернизма и реальные проблемы «выживания литературы» // Литературы Центральной и Югов-Восточной Европы: 1990-ые годы. Прерывность – непрерывность литературного процесса. М. 2002. С. 17-21, а также Адельгейм И. Поэтика промежутка. Молодая польская проза после 1989 года. М., 2005.
[18] Адельгейм И. Поэтика польской прозы 1990-ых годов... С.17.
[19] Хорев В.А. Указ.соч. С.137.
[20] Хорев В.А. Указ.соч. С.133.
[21] Цит по: Stępień M. Biografia. http://www.republika.pl/marekhlasko/ 11.05.2004.
[22] Цит по: Гадаскина Д. Вступ. заметка к Хласко М. И все отвернулись // Звезда, 1995, №10.
[23] Stęmpień M. Op.cit.
[24] Burkot S. Proza powojenna 1945-87. Warszawa, 1991. S. 88.
[25] Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. Екатеринбург, 1997. С.115-116.
[26] Kijowski A. Smutne dziecko czyli o literaturze współczesnej… // Nowa Kultura, 1956, №15.
[27] Хорев В.А. Указ.соч. С.133.
[28] Jarosiński Z. Literatura lat 1945-1975. Warszawa, 1996. S.126.
[29] Пиотровская А.Г. Художественные искания современной польской литературы. Проза и поэзия 60-70-ых годов. М., 1979. С.46.
[30] Kisiel M. Op.cit. S.52.
[31] Цит. по: Хорев В.А. Указ.соч. С.98.
[32] Таким эпиграфом З.Налковская предварила свой сборник военных рассказов «Медальоны» (1945).
[33] Хорев В.А. Указ.соч. С.95.
[34] Цит. по: Хорев В.А. Польская литература // История литератур Восточной Европы… Т.2. С.106.
[35] Nycz R. Sylwy współczesne. Warszawa, 1984. S.56.
[36] См: Czermińska M. Literatura polska. Okres 1956-76 // Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa, 2000. T.2. S.415.
[37] Поэтика романа К.Ижиковского «Химера» исследуется в статье автора диссертации «Проблема автотематизма в романе Кароля Ижиковского “Химера”» // Славяноведение, М., 2005, №1.
иповецкий М., Лейдерман Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // Новый мир, 1993, №7.
[38] Липовецкий М., Лейдерман Н. Жизнь после смерти, или Новые сведения о реализме // Новый мир, 1993, №7.
[39] Адельгейм И. Указ.соч. С.11.
[40] Адельгейм И. Указ.соч. С.10.
[41] Czapliński P. Wyzwania prozy polskiej lat dziewięćdziesiątych. http://www.europalia.pl/ 19.03.2004.
[42] Ibidem.
[43] Uniłowski K. Postmodernizm w Polsce, postmodernism po polsku. http://www.sjikp.us.edu.pl/ 08.04.2004
[44] Генеалогия термина «постмодерн» восходит к 1917 году., когда его впервые употребил в своей работе «Кризис европейской культуры» немецкий ученый Рудольф Панвиц. Речь шла о новом человеке, призванном преодолеть упадок в духе ницшеанской идеи сверхчеловека. Собственно термин «постмодернизм» ввел в оборот знаменитый английский историк Арнольд Тойнби для обозначения длительного процесса, (который, с его точки зрения, начался еще на рубеже 19-20 веков), безнадежного соскальзывания западной мысли в иррациональность и полный хаос. Если отвлечься от дальнейших спорадических употреблений термина, то следующей вехой, непосредственно ведущей к современным спорам вокруг постмодернизма, была литературоведческая дискуссия в США 1960-ых годов. В 1969 году Лесли Фидлер напечатал в журнале «Плейбой» (место публикации также носит знаковый характер) статью под названием «Засыпайте рвы, пересекайте границы». С этого времени о постмодернизме заговорили как о литературном явлении, позже оно было перенесено на архитектуру, а на рубеже 70-80-ых годов, в первую очередь благодаря работам Лиотара, распространившего дискуссию о постмодернизме на область философии, термин стали употреблять для обозначения целой духовной ситуации последней трети 20-ого века.
[45] Uniłowski K. Op.cit.
[46] Вопросу постмодернизма в славянских литературах посвящен доклад автора диссертации на международной конференции «Славянские литературы в контексте истории мировой литературы» (Москва, 2002), тезисы которого опубликованы в сборнике информационных материалов и тезисов докладов конференции. (См.: Савельева А. Постмодернизм в славянских литературах и роман Е.Анджеевского «Месиво» // Славянские литературы в контексте истории мировой литературы (преподавание, изучение). М., 2002).
[47] Адельгейм И. Указ.соч. С.7.
[48] Ирина Адельгейм, в частности, указывает, что «первым постмодернистским романом» на рубеже 1980-90-ых годов в Польше успели побывать «Rien ne va plus» (1991) А.Барта, «Последний американский роман» (1993) П.Чаканьского-Спорека, «Панна Никто» (1994) Т.Трызны и многие другие. (См. об этом: Адельгейм И. Указ.соч. С.7).
[49] В странах Восточной Европы под модернизмом (модерной) принято понимать рубеж ХIХ-ХХ веков (в Польше эта эпоха имеет второе название – Молодая Польша (1890-1918 годы)). В западноевропейской традиции термин «модерн» (Modern) обозначает культурно-цивилизационный тип, сформировавшийся в эпоху Просвещения и актуальный вплоть до середины ХХ века, когда, по мнению большинства ученых, и произошла смена художественной и мировоззренческой парадигмы от модернизма к постмодернизму.
[50] Klejnocki J., Sosnowski J. Chwilowe zawieszenie broni. Warszawa, 1996. S.107.
[51] Uniłowski K. Op.cit.
[52] Липовецкий М. Русский постмодернизм… С. 109.
[53] Эпштейн М. Истоки и смысл русского постмодернизма // Звезда, 1996, №8.
[54] Uniłowski K. Rzut oka na polską prozę powojenną http://www.sjikp.us.edu.pl/ 05.04.2004.
[55] Сам Униловский ссылается в данном случае на замечание своего коллеги – критика Дариуша Новацкого, который писал: «Время было такое <…>, что заниматься атрофией фабулы у Ульмана, что это как не бесстыдство…». (См: Uniłowski K. Op.cit)
[56] Ibidem.