Анна алексеевна Савельева
Глава 5
ДО И ПОСЛЕ «МЕСИВА»:
Роман «Идет, скачет по горам» и повести конца 1960-ых — начала 1980-ых годов
Роман «Идет, скачет по горам» и повести конца 1960-ых — начала 1980-ых годов
История, или как нередко характеризует ее критика, «легенда» романа Ежи Анджеевского «Месиво» начинается весной 1960 года [1]. Судя по записям в дневнике писателя, именно в это время Анджеевский впервые обращается к материалам для новой книги, задуманной как биография знаменитого польского литератора — ровесника и свидетеля века.
С самого начала фигура главного героя представляла собой собирательный образ, наделенный в то же время узнаваемыми автобиографическими чертами. Как свидетельствуют записи в дневнике, Анджеевский боролся между желанием создать героя целиком по своему «образу и подобию» и стремлением избежать в романе банального автобиографизма.
Согласно первоначальному замыслу, повествователем в книге должен был стать близкий знакомый и соратник героя, воссоздающий его биографию, опираясь на собственные воспоминания, а также письма и дневники из личного архива знаменитого друга. Как полагает Анна Сынорадзкая-Демадр,[2] эта идея родилась у Анджеевского под впечатлением от прочтения «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, (в 1960 году как раз вышел в свет первый польский перевод романа).
В задуманном Анджеевским образе скромного друга-биографа без труда можно усмотреть черты манновского Серенуса Цейтблома, а знаменитый польский литератор, вероятно, должен был напоминать читателю гениального Адриана Леверкюна.
В конце июня 1960 года Анджеевский записал в своем дневнике несколько основных деталей относительно главного героя будущего романа: «Адам, родился 10 января 1909 г., окрещен 2 марта в костеле всех святых в Гжибове"[3]. Позже появились исходные данные и о некоторых других персонажах книги, почерпнутые, главным образом, из старых черновиков и набросков несостоявшихся произведений: образ певицы Михалины (Галины) Чаплицкой, режиссера Генрика Ванерта и др.
Главному герою (писателю Адаму) Анджеевский дал сначала фамилию Оссовский, затем изменил ее на Радомский и затем еще раз — уже окончательно — на Нагурский.
Работа над новой книгой протекала непросто и не раз неожиданно резко меняла русло. Для начала Анджеевский отказался от про-манновской фигуры рассказчика и идеи вести повествование о своем герое «посмертно». Позже принял решение превратить книгу из традиционного романа-биографии в подборку фактов и беспристрастных суждений о герое, объединенных по принципу коллажа или инсталляции. Именно в связи с этим замыслом в черновиках писателя впервые появляется название «Месиво», отражающее «полную свободу формы», которую Анджеевский задумал как отличительную особенность новой книги.
В начале 1960-ых годов Анджеевский не раз и подолгу живет в Париже. В 1959 году Фонд Форда выделил писателю стипендию, благодаря которой с ноября 1959-ого по апрель 1960-ого он смог провести во Франции, где впервые после долгой разлуки повстречался с Чеславом Милошем, подружился со Збигневым Гертцом.
~
В начале 1960-ых годов Анджеевский не раз и подолгу живет в Париже. В 1959 году Фонд Форда выделил писателю стипендию, благодаря которой с ноября 1959-ого по апрель 1960-ого он смог провести во Франции, где впервые после долгой разлуки повстречался с Чеславом Милошем, подружился со Збигневым Гертцом.
В июле 1962 года Анджеевский вместе с сыном Мартином вновь отправляется во Францию — по личному приглашению З.Гертца. На этот раз путешествие не ограничивается пребыванием в Париже. Вместе с режиссером Романом Поляньским Анджеевский осматривает замки Луары, потом навещает Лазурное побережье, останавливается на некоторое время в Каннах и только в сентябре возвращается в Париж.
Здесь, полный впечатлений и эмоций от богемной французской жизни, писатель приступает к работе над новой книгой — романом «Идет, скачет по горам», которую уже через несколько месяцев блестяще завершает в Оборах под Варшавой.
Роман оказался, по меньшей мере, неожиданным, а по большому счету — скандальным. От двух предыдущих книг писателя — романов «Мрак покрывает землю» и «Врата рая», которые принесли ему огромную известность и широкое признание, новую книгу Анджеевского отличало если не все, то многое.
Впервые за долгое время писатель отказался от исторических (или псевдоисторических) сюжетов в пользу не просто актуальных, а почти сиюминутных событий, по-репортерски торопливо выхваченных и зафиксированных в диалогах, скетчах, анекдотах, коротких красочных зарисовках из парижской жизни.
Впервые за всю свою творческую карьеру Анджеевский делает главным действующим лицом своей книги не молодого человека, не подростка и не ребенка, (как это было во всех его предыдущих больших работах, кроме разве что «Лада сердца»), а глубокого старика — «старого стариканища, гениального козла» [4] 78-летнего художника Антонио Ортиса. (За его образом без труда угадывается фигура Пабло Руиса Пикассо).
Впервые Анджеевский создает книгу, в которой карикатурность, сатира, пародия, т. е. «насмешничество», столь характерное для польской литературы (вспомним А. Галчинского, В. Гомбровича) и столь нетипичное для самого Анджеевского, превалируют над патетикой, над трагическим ощущением жизни и неразрешимостью моральных и философских конфликтов.
Единственной сатирической сценой во всем предшествующем творчестве Анджеевского можно считать банкет в ресторане «Монополь» из романа «Пепел и алмаз». Парафразом того банкета, увенчавшегося знаменитым полонезом, в романе «Идет, скачет по горам» станет сцена открытия вернисажа — долгожданной выставки Антонио Ортиса.
Роман «Идет, скачет по горам», как и другие более ранние произведения Анджеевского (и в первую очередь микророман «Врата рая»), тяготеет к концентрическому сюжету. Все художественное время книги сосредоточено в промежутке между двумя хронологическими моментами: встречей Ортиса, переживающего глубокий духовный и творческий кризис со своей новой музой (22-летней фотомоделью Франсуазой Пелье) и моментом торжественного открытия выставки ее портретов, созданных художником.
Выставка — центральный и ключевой эпизод романа. Здесь сходятся и пересекаются все остальные сюжетные линии и встречаются все второстепенные персонажи книги, ранее упоминавшиеся по одиночке: восходящая кинозвезда с сомнительным полукриминальным прошлым, стареющий поэт, не скрывающий привязанности к юнцам из небогатых кварталов, похотливая старая аристократка, пронырливый журналист — охотник за сенсациями, демагог-искусствовед, всю жизнь паразитирующий на искусстве Ортиса и многие другие.
Однако художественное время и пространство романа не замыкается внутри нескольких локальных эпизодов, напротив — благодаря многочисленным ретро- и интроспекциям героев, действие книги охватывает события, отстоящие от момента повествования на несколько месяцев, а иногда и на несколько десятков лет.
Выстраивая композицию своего романа, писатель вновь много и часто прибегает к уже опробованному им принципу пространственного и временного симультанизма. Одни и те же события в «Идет, скачет по горам» изображаются как бы с разной перспективы, глазами разных героев, каждый из которых знает только свою часть «правды». Чтобы составить полное представление о случившемся, читателю Анджеевского необходимо как «паззл» собрать воедино все упомянутые в романе факты и их интерпретации, и быть готовым к тому, что некоторые из них окажутся избыточными, а некоторые придется додумать самому.
При всей концентричности сюжета роман «Идет, скачет по горам» исключительно густо населен. В нем задействованы десятки персонажей с их судьбами, мыслями, подробностями жизни. Создавая портреты второстепенных героев, Анджеевский словно набрасывает сюжеты для будущих книг. Некоторые эпизоды романа начинаются и заканчиваются многоточием, как черновики или незаконченные зарисовки из жизни. Писатель не раз в буквальном смысле обрывает повествование на полуслове, «перескакивая» из одних временных и пространственных декораций в другие при помощи нехитрой повествовательной связки «а в это время…» (которая далеко не всегда присутствует в тексте, а часто только подразумевается).
При этом синтаксис и пунктуация в «Идет, скачет по горам», как и во «Вратах рая», намеренно усложнены. Предложения в романе редко заканчиваются точками, фразы либо обрываются на середине, либо перетекают одна в другую (часто без прямой логической связи), имитируя тем самым течение времени, объединяющего в себе множество разрозненных моментов, каждый из которых конечен, но все они вместе — непрерывны.
Симультанность повествования позволяет Анджеевскому создать роман масштабный, широкий по охвату лиц и событий, но одновременно исключительно динамичный, активный, даже подвижный (к «Идет, скачет по горам» вполне приложим термин «роман в движении» — форма, которую Анджеевский в полной мере реализует в «Месиве»). В результате получается произведение, как никакое другое передающее ощущение столичной жизни — не важно идет ли речь о Париже или о Варшаве.
Стремление уловить и зафиксировать жизнь большого города угадывается даже в названиях глав романа, которые больше напоминают заголовки газетных заметок или подписи к фотографиям в светской хронике: «Уильям Уайт принимает журналистов в баре отеля „Рафаэль“» (Идет…, с.247), «Пьер Лоранс обнаруживает возле самого носа прыщик» (Идет…, с.236), «Ален Пио едет по направлению к улице Ансьен Комедии» (Идет…, с.277) и др.
Вполне в духе бульварной прессы писатель насыщает роман подробностями частной, если не сказать — интимной — жизни героев, смакует подробности их сексуальных похождений, описывает физиологию. Один из героев романа писатель Уильям Уайт на пресс-конференции шокирует публику следующим заявлением: «Имя: Уильям Джон Чарльз, дата рождения: 29 июня 1912 года, место рождения: Конкорд, штат Нью-Хемпштр, США, гражданство: США, семейное положение: холост, женат, разведен, женат, разведен <…>, профессия: драматург, лицо: продолговатое, волосы: рыжие, глаза: голубые, рост: метр восемьдесят шесть, ширина плеч: пятьдесят три сантиметра, объем грудной клетки: сто восемьдесят сантиметров, талия: восемьдесят пять сантиметров, длина пениса: тринадцать сантиметров <…> длина оного в состоянии эрекции: двадцать два сантиметра, обхват в состоянии эрекции: пятнадцать сантиметров…» (Идет…, с.251).
Склонность к эпатажу проявляют, впрочем, не только герои романа; повествователь в «Идет, скачет по горам» также наследует принципам «желтой» прессы, живописуя, например, процесс испражнения Ортиса.
Говоря о романе «Идет, скачет по горам», В Британишский пишет: «Анджеевский не брезгует банальностью, пошлостью, дешевкой, поэтикой бульварных и полупорнографических романов, мелодрамы, детектива, светской хроники; „низшие жанры“ явно интересуют его» [5].
На наш взгляд, правильнее было бы сказать, что писатель не делает различия для «низких» и «высоких» жанров. В поздней прозе Анджеевского стираются стилевые и жанровые границы: высокое искусство активно впитывает и поглощает риторику бульварных изданий, а традиционно низкие темы, (например, плотской любви, в том числе гомосексуальной), напротив, возвышаются через лиризм, психологичность, высокую, почти поэтическую, чувственность описаний.
Эта тенденция к намеренному неразличению «низких» и «высоких» жанров и тем, заметная уже в романе Анджеевского «Идет, скачет по горам» и еще ярче проявившаяся в его романе «Месиво», станет одной из отличительных черт литературы более позднего времени, когда концептуальная постмодернистская установка «Засыпайте рвы, пересекайте границы», сформулированная в 1969 году Лесли Фидлером [6] будет перенесена в литературную практику. В польской литературе ярким примером иронического переосмысления низких жанров в 1990-ые годы станет роман Т. Конвицкого «Чтиво» (1992).
Нет ничего удивительного в том, что издание в 1963 году романа Анджеевского «Идет, скачет по горам» стало событием в Польше. Для галломанской Варшавы, где Париж испокон веков считался эталоном моды и вкуса, само по себе насмешливо-карикатурное изображение парижской богемы как крикливой толпы, падкой на дешевку и пошлости, было достаточным поводом для изумления и шока.
Анджеевский пошел еще дальше: «Идет, скачет по горам» можно читать как «роман с ключом». За литературными образами и мизансценами романа без труда угадываются реальные действующие лица и события светской хроники конца 1960-ых годов. Прототипами героев романа, помимо уже упомянутого Пабло Пикассо, стали: Франсуа Мориак, Марек Хласко, Жан Кокто, Теннеси Уильямс, Жан-Поль Бельмондо и другие известные персоны европейской артистической элиты, показанные Анджеевским зачастую в далеко не выигрышном свете.
Однако несправедливо было бы считать «Идет, скачет по горам» только памфлетом, пасквилем на европейскую артистическую среду. Как справедливо отмечает В. Британишский, если это и карикатура, то — раблезианская [7].
По словам Британишского, «есть в этой вещи раблезианская уверенность в том, что жизнь всегда права, всегда торжествует над фальшью, мертвечиной, абстракцией. Эта уверенность воплощается в фигуре вечно молодого и вечно творчески (и сексуально) продуктивного <…> художника Антонио Ортиса» [8].
Польские критики увидели в образе Ортиса принципиально новый тип героя — человека, который не ищет смысла жизни, а сам наделяет ее смыслом, не только является объектом мифотворчества, а сам творит миф вокруг себя [9].
А. Сынорадзкая-Демадр пишет: «Великий художник, подобно демиургу, обладающему властью над формой, способен создать миф, противостоящий хаосу мира. Предметом мифологизации он делает самого себя: свой образ в глазах современников и будущих поколений» [10].
Широко понимаемый мифологизм — важная составляющая поэтики романа «Идет, скачет по горам». Создавая портрет своего героя, Анджеевский активно использует образы, язык, метафорику античных и библейских мифов. Полотна Ортиса, главным образом, посвящены мифологическим сюжетам («Сатир», «Адонис на плечах фавнов»). Его возлюбленную Франсуазу повествователь сравнивает с волшебницей-Цирцеей («Ну конечно же! — отзывается Франсуаза невероятно высоким, нежным и хрустально-звонким голоском (нимфа Цирцея должна была таким голосом зазывать Одиссея из глубины вод <…>)», (Идет…, с.323). Даже в речи безличного нарратора встречаются микроцитаты из гомеровской «Одиссеи»: «ну, а теперь, когда шестидесятый год подкатился к весеннему равноденствию и розовоперстая Эос возвестила о наступлении того мартовского дня…» (Идет…, с.204).
Весь роман буквально пронизан аллюзиями на мифологические сюжеты. Как подмечает В. Британишский, двуединая формула «козел-пастух» — явная пародия на увлечение мифом Диониса; отношения Ортиса и Франсуазы стилизованы под миф о царе Соломоне и его юной возлюбленной Суламифи [11]. К мифу отсылает и название книги — оборванная на полуслове строка стиха из «Песни Песней»: «Вот он, возлюбленный мой, идет, скачет по горам, прыгает по холмам…».
Однако самый яркий и самый серьезный подтекст в романе относится, без сомнения, к фаустусовскому мифу — о возвращенной молодости. Этот сюжет волновал Анджеевского, (вероятно, чувствовавшего приближение собственной старости), с особой силой. Писатель впервые затронул его во «Вратах рая» в связи с образом старого священника, мечтавшего благодаря юности и чистоте окружавших его детей самому вернуть утраченные жизненные силы. В образе Ортиса мотив «омолодившегося старца», «младо-старого божества» (С.202) нашел свое наиболее яркое воплощение.
В «Идет, скачет по горам» Анджеевский создает образ художника, которому удалось если не победить, то отсрочить старость, благодаря своей не иссекающей вере в жизнь, жажде жизни, способности и готовности любить — отдавать и брать, утолять желание и вожделеть вновь.
«Ортис впитывает опыт всех эпох и всех стилей, использует и отбрасывает его с царственной свободой, но все, к чему прикоснулся его гений, отчас преображается, все подчиняется его колдовской мощи, он же в своей ошеломляющей переменчивости и в многообразии неизменно остается самим собой! Не ему разве принадлежат сказанные однажды слова: «Художник — это человек, более алчный, чем все остальные люди»? Однако, заимствуя так много у жизни и у человечества, он одаряет их с невероятной щедростью, с широтой, свойственной лишь величайшим гениям: он обогатил жизнь и человечество своими шедеврами" — пишет о художнике знаменитый «ортисовед» (Идет…, с. 204).
В романе присутствуют две оценки художника: первая — восхищенная, которую разделяет повествователь и редкие истинные ценители его искусства («гений», «божество»), вторая — язвительная, присущая обывателям («козел», «стариканище»). Однако конфликт романа не сводится к драме непонимания между творцом и окружающей его толпой филистеров, как это было в романах эпохи «Молодой Польши».
В отличие от других — одиноких и непризнанных — гениев, вынужденных умирать в нищете, Ортис удачлив в искусстве и в любви. Его гениальность, говоря словами Збигнева Жабицкого, состоит в способности «находить золотую середину между необходимостью и свободой художника; на понимании структуры рынка и на подчинении этих знаний собственным выдающимся творческим целям» [12].
Драма Ортиса в том, что боги не прощают удачливых. Он, 78-летний «старикан» жив и полон сил, а его молоденькая возлюбленная погибает, не выдержав разочарования в нем — своем небожителе.
Анджеевский оставляет «за кадром» ответ на вопрос, была ли смерть Франсуазы трагической случайностью (девушка погибает под колесами автомобиля, убегая от преследующих ее журналистов) или самоубийством, но, так или иначе, ответственность за ее преждевременную гибель лежит на Ортисе.
В своем неуемном стремлении продлить молодость, он не заметил, как лишил юную «хрупкоцветную» (Идет…, с.351) возлюбленную жизненных сил. Для девушки оказалась невыносимой мысль об изменах Ортиса (особенно с мужчинами).
Фигура Антонио Ортиса выглядит исключительно современной, как и сам роман. По мнению многих критиков, писателю удалось уловить дух времени, чему немало способствовало умелое использование (в т.ч. пародирование) узнаваемых писательских стилей и техник, мотивов и сцен мировой литературы последних лет: от Джойса и Манна до Сартара и Гомбровича.
По воспоминаниям хорошо знакомого с Анджеевским писателя и литературоведа Антония Либеры, «все это чрезвычайно нравилось читателям <…> Книгу ассоциировали со „Сладкой жизнью“ Феллини и фильмами французской „Новой волны“; восхищались остротой и красноречивостью повествования; радовались, что в Польше есть писатель и произведение, идущие в ногу с современными западными тенденциями; мечтали, что он будет писать так и дальше и… чтобы в той же манере рассказал теперь о том, что касалось бы „нашего двора“, — о том, что происходит на родине» [13]. Этой книгой и должно было стать «Месиво».
В июле 1962 года Анджеевский вместе с сыном Мартином вновь отправляется во Францию — по личному приглашению З.Гертца. На этот раз путешествие не ограничивается пребыванием в Париже. Вместе с режиссером Романом Поляньским Анджеевский осматривает замки Луары, потом навещает Лазурное побережье, останавливается на некоторое время в Каннах и только в сентябре возвращается в Париж.
Здесь, полный впечатлений и эмоций от богемной французской жизни, писатель приступает к работе над новой книгой — романом «Идет, скачет по горам», которую уже через несколько месяцев блестяще завершает в Оборах под Варшавой.
Роман оказался, по меньшей мере, неожиданным, а по большому счету — скандальным. От двух предыдущих книг писателя — романов «Мрак покрывает землю» и «Врата рая», которые принесли ему огромную известность и широкое признание, новую книгу Анджеевского отличало если не все, то многое.
Впервые за долгое время писатель отказался от исторических (или псевдоисторических) сюжетов в пользу не просто актуальных, а почти сиюминутных событий, по-репортерски торопливо выхваченных и зафиксированных в диалогах, скетчах, анекдотах, коротких красочных зарисовках из парижской жизни.
Впервые за всю свою творческую карьеру Анджеевский делает главным действующим лицом своей книги не молодого человека, не подростка и не ребенка, (как это было во всех его предыдущих больших работах, кроме разве что «Лада сердца»), а глубокого старика — «старого стариканища, гениального козла» [4] 78-летнего художника Антонио Ортиса. (За его образом без труда угадывается фигура Пабло Руиса Пикассо).
Впервые Анджеевский создает книгу, в которой карикатурность, сатира, пародия, т. е. «насмешничество», столь характерное для польской литературы (вспомним А. Галчинского, В. Гомбровича) и столь нетипичное для самого Анджеевского, превалируют над патетикой, над трагическим ощущением жизни и неразрешимостью моральных и философских конфликтов.
Единственной сатирической сценой во всем предшествующем творчестве Анджеевского можно считать банкет в ресторане «Монополь» из романа «Пепел и алмаз». Парафразом того банкета, увенчавшегося знаменитым полонезом, в романе «Идет, скачет по горам» станет сцена открытия вернисажа — долгожданной выставки Антонио Ортиса.
Роман «Идет, скачет по горам», как и другие более ранние произведения Анджеевского (и в первую очередь микророман «Врата рая»), тяготеет к концентрическому сюжету. Все художественное время книги сосредоточено в промежутке между двумя хронологическими моментами: встречей Ортиса, переживающего глубокий духовный и творческий кризис со своей новой музой (22-летней фотомоделью Франсуазой Пелье) и моментом торжественного открытия выставки ее портретов, созданных художником.
Выставка — центральный и ключевой эпизод романа. Здесь сходятся и пересекаются все остальные сюжетные линии и встречаются все второстепенные персонажи книги, ранее упоминавшиеся по одиночке: восходящая кинозвезда с сомнительным полукриминальным прошлым, стареющий поэт, не скрывающий привязанности к юнцам из небогатых кварталов, похотливая старая аристократка, пронырливый журналист — охотник за сенсациями, демагог-искусствовед, всю жизнь паразитирующий на искусстве Ортиса и многие другие.
Однако художественное время и пространство романа не замыкается внутри нескольких локальных эпизодов, напротив — благодаря многочисленным ретро- и интроспекциям героев, действие книги охватывает события, отстоящие от момента повествования на несколько месяцев, а иногда и на несколько десятков лет.
Выстраивая композицию своего романа, писатель вновь много и часто прибегает к уже опробованному им принципу пространственного и временного симультанизма. Одни и те же события в «Идет, скачет по горам» изображаются как бы с разной перспективы, глазами разных героев, каждый из которых знает только свою часть «правды». Чтобы составить полное представление о случившемся, читателю Анджеевского необходимо как «паззл» собрать воедино все упомянутые в романе факты и их интерпретации, и быть готовым к тому, что некоторые из них окажутся избыточными, а некоторые придется додумать самому.
При всей концентричности сюжета роман «Идет, скачет по горам» исключительно густо населен. В нем задействованы десятки персонажей с их судьбами, мыслями, подробностями жизни. Создавая портреты второстепенных героев, Анджеевский словно набрасывает сюжеты для будущих книг. Некоторые эпизоды романа начинаются и заканчиваются многоточием, как черновики или незаконченные зарисовки из жизни. Писатель не раз в буквальном смысле обрывает повествование на полуслове, «перескакивая» из одних временных и пространственных декораций в другие при помощи нехитрой повествовательной связки «а в это время…» (которая далеко не всегда присутствует в тексте, а часто только подразумевается).
При этом синтаксис и пунктуация в «Идет, скачет по горам», как и во «Вратах рая», намеренно усложнены. Предложения в романе редко заканчиваются точками, фразы либо обрываются на середине, либо перетекают одна в другую (часто без прямой логической связи), имитируя тем самым течение времени, объединяющего в себе множество разрозненных моментов, каждый из которых конечен, но все они вместе — непрерывны.
Симультанность повествования позволяет Анджеевскому создать роман масштабный, широкий по охвату лиц и событий, но одновременно исключительно динамичный, активный, даже подвижный (к «Идет, скачет по горам» вполне приложим термин «роман в движении» — форма, которую Анджеевский в полной мере реализует в «Месиве»). В результате получается произведение, как никакое другое передающее ощущение столичной жизни — не важно идет ли речь о Париже или о Варшаве.
Стремление уловить и зафиксировать жизнь большого города угадывается даже в названиях глав романа, которые больше напоминают заголовки газетных заметок или подписи к фотографиям в светской хронике: «Уильям Уайт принимает журналистов в баре отеля „Рафаэль“» (Идет…, с.247), «Пьер Лоранс обнаруживает возле самого носа прыщик» (Идет…, с.236), «Ален Пио едет по направлению к улице Ансьен Комедии» (Идет…, с.277) и др.
Вполне в духе бульварной прессы писатель насыщает роман подробностями частной, если не сказать — интимной — жизни героев, смакует подробности их сексуальных похождений, описывает физиологию. Один из героев романа писатель Уильям Уайт на пресс-конференции шокирует публику следующим заявлением: «Имя: Уильям Джон Чарльз, дата рождения: 29 июня 1912 года, место рождения: Конкорд, штат Нью-Хемпштр, США, гражданство: США, семейное положение: холост, женат, разведен, женат, разведен <…>, профессия: драматург, лицо: продолговатое, волосы: рыжие, глаза: голубые, рост: метр восемьдесят шесть, ширина плеч: пятьдесят три сантиметра, объем грудной клетки: сто восемьдесят сантиметров, талия: восемьдесят пять сантиметров, длина пениса: тринадцать сантиметров <…> длина оного в состоянии эрекции: двадцать два сантиметра, обхват в состоянии эрекции: пятнадцать сантиметров…» (Идет…, с.251).
Склонность к эпатажу проявляют, впрочем, не только герои романа; повествователь в «Идет, скачет по горам» также наследует принципам «желтой» прессы, живописуя, например, процесс испражнения Ортиса.
Говоря о романе «Идет, скачет по горам», В Британишский пишет: «Анджеевский не брезгует банальностью, пошлостью, дешевкой, поэтикой бульварных и полупорнографических романов, мелодрамы, детектива, светской хроники; „низшие жанры“ явно интересуют его» [5].
На наш взгляд, правильнее было бы сказать, что писатель не делает различия для «низких» и «высоких» жанров. В поздней прозе Анджеевского стираются стилевые и жанровые границы: высокое искусство активно впитывает и поглощает риторику бульварных изданий, а традиционно низкие темы, (например, плотской любви, в том числе гомосексуальной), напротив, возвышаются через лиризм, психологичность, высокую, почти поэтическую, чувственность описаний.
Эта тенденция к намеренному неразличению «низких» и «высоких» жанров и тем, заметная уже в романе Анджеевского «Идет, скачет по горам» и еще ярче проявившаяся в его романе «Месиво», станет одной из отличительных черт литературы более позднего времени, когда концептуальная постмодернистская установка «Засыпайте рвы, пересекайте границы», сформулированная в 1969 году Лесли Фидлером [6] будет перенесена в литературную практику. В польской литературе ярким примером иронического переосмысления низких жанров в 1990-ые годы станет роман Т. Конвицкого «Чтиво» (1992).
Нет ничего удивительного в том, что издание в 1963 году романа Анджеевского «Идет, скачет по горам» стало событием в Польше. Для галломанской Варшавы, где Париж испокон веков считался эталоном моды и вкуса, само по себе насмешливо-карикатурное изображение парижской богемы как крикливой толпы, падкой на дешевку и пошлости, было достаточным поводом для изумления и шока.
Анджеевский пошел еще дальше: «Идет, скачет по горам» можно читать как «роман с ключом». За литературными образами и мизансценами романа без труда угадываются реальные действующие лица и события светской хроники конца 1960-ых годов. Прототипами героев романа, помимо уже упомянутого Пабло Пикассо, стали: Франсуа Мориак, Марек Хласко, Жан Кокто, Теннеси Уильямс, Жан-Поль Бельмондо и другие известные персоны европейской артистической элиты, показанные Анджеевским зачастую в далеко не выигрышном свете.
Однако несправедливо было бы считать «Идет, скачет по горам» только памфлетом, пасквилем на европейскую артистическую среду. Как справедливо отмечает В. Британишский, если это и карикатура, то — раблезианская [7].
По словам Британишского, «есть в этой вещи раблезианская уверенность в том, что жизнь всегда права, всегда торжествует над фальшью, мертвечиной, абстракцией. Эта уверенность воплощается в фигуре вечно молодого и вечно творчески (и сексуально) продуктивного <…> художника Антонио Ортиса» [8].
Польские критики увидели в образе Ортиса принципиально новый тип героя — человека, который не ищет смысла жизни, а сам наделяет ее смыслом, не только является объектом мифотворчества, а сам творит миф вокруг себя [9].
А. Сынорадзкая-Демадр пишет: «Великий художник, подобно демиургу, обладающему властью над формой, способен создать миф, противостоящий хаосу мира. Предметом мифологизации он делает самого себя: свой образ в глазах современников и будущих поколений» [10].
Широко понимаемый мифологизм — важная составляющая поэтики романа «Идет, скачет по горам». Создавая портрет своего героя, Анджеевский активно использует образы, язык, метафорику античных и библейских мифов. Полотна Ортиса, главным образом, посвящены мифологическим сюжетам («Сатир», «Адонис на плечах фавнов»). Его возлюбленную Франсуазу повествователь сравнивает с волшебницей-Цирцеей («Ну конечно же! — отзывается Франсуаза невероятно высоким, нежным и хрустально-звонким голоском (нимфа Цирцея должна была таким голосом зазывать Одиссея из глубины вод <…>)», (Идет…, с.323). Даже в речи безличного нарратора встречаются микроцитаты из гомеровской «Одиссеи»: «ну, а теперь, когда шестидесятый год подкатился к весеннему равноденствию и розовоперстая Эос возвестила о наступлении того мартовского дня…» (Идет…, с.204).
Весь роман буквально пронизан аллюзиями на мифологические сюжеты. Как подмечает В. Британишский, двуединая формула «козел-пастух» — явная пародия на увлечение мифом Диониса; отношения Ортиса и Франсуазы стилизованы под миф о царе Соломоне и его юной возлюбленной Суламифи [11]. К мифу отсылает и название книги — оборванная на полуслове строка стиха из «Песни Песней»: «Вот он, возлюбленный мой, идет, скачет по горам, прыгает по холмам…».
Однако самый яркий и самый серьезный подтекст в романе относится, без сомнения, к фаустусовскому мифу — о возвращенной молодости. Этот сюжет волновал Анджеевского, (вероятно, чувствовавшего приближение собственной старости), с особой силой. Писатель впервые затронул его во «Вратах рая» в связи с образом старого священника, мечтавшего благодаря юности и чистоте окружавших его детей самому вернуть утраченные жизненные силы. В образе Ортиса мотив «омолодившегося старца», «младо-старого божества» (С.202) нашел свое наиболее яркое воплощение.
В «Идет, скачет по горам» Анджеевский создает образ художника, которому удалось если не победить, то отсрочить старость, благодаря своей не иссекающей вере в жизнь, жажде жизни, способности и готовности любить — отдавать и брать, утолять желание и вожделеть вновь.
«Ортис впитывает опыт всех эпох и всех стилей, использует и отбрасывает его с царственной свободой, но все, к чему прикоснулся его гений, отчас преображается, все подчиняется его колдовской мощи, он же в своей ошеломляющей переменчивости и в многообразии неизменно остается самим собой! Не ему разве принадлежат сказанные однажды слова: «Художник — это человек, более алчный, чем все остальные люди»? Однако, заимствуя так много у жизни и у человечества, он одаряет их с невероятной щедростью, с широтой, свойственной лишь величайшим гениям: он обогатил жизнь и человечество своими шедеврами" — пишет о художнике знаменитый «ортисовед» (Идет…, с. 204).
В романе присутствуют две оценки художника: первая — восхищенная, которую разделяет повествователь и редкие истинные ценители его искусства («гений», «божество»), вторая — язвительная, присущая обывателям («козел», «стариканище»). Однако конфликт романа не сводится к драме непонимания между творцом и окружающей его толпой филистеров, как это было в романах эпохи «Молодой Польши».
В отличие от других — одиноких и непризнанных — гениев, вынужденных умирать в нищете, Ортис удачлив в искусстве и в любви. Его гениальность, говоря словами Збигнева Жабицкого, состоит в способности «находить золотую середину между необходимостью и свободой художника; на понимании структуры рынка и на подчинении этих знаний собственным выдающимся творческим целям» [12].
Драма Ортиса в том, что боги не прощают удачливых. Он, 78-летний «старикан» жив и полон сил, а его молоденькая возлюбленная погибает, не выдержав разочарования в нем — своем небожителе.
Анджеевский оставляет «за кадром» ответ на вопрос, была ли смерть Франсуазы трагической случайностью (девушка погибает под колесами автомобиля, убегая от преследующих ее журналистов) или самоубийством, но, так или иначе, ответственность за ее преждевременную гибель лежит на Ортисе.
В своем неуемном стремлении продлить молодость, он не заметил, как лишил юную «хрупкоцветную» (Идет…, с.351) возлюбленную жизненных сил. Для девушки оказалась невыносимой мысль об изменах Ортиса (особенно с мужчинами).
Фигура Антонио Ортиса выглядит исключительно современной, как и сам роман. По мнению многих критиков, писателю удалось уловить дух времени, чему немало способствовало умелое использование (в т.ч. пародирование) узнаваемых писательских стилей и техник, мотивов и сцен мировой литературы последних лет: от Джойса и Манна до Сартара и Гомбровича.
По воспоминаниям хорошо знакомого с Анджеевским писателя и литературоведа Антония Либеры, «все это чрезвычайно нравилось читателям <…> Книгу ассоциировали со „Сладкой жизнью“ Феллини и фильмами французской „Новой волны“; восхищались остротой и красноречивостью повествования; радовались, что в Польше есть писатель и произведение, идущие в ногу с современными западными тенденциями; мечтали, что он будет писать так и дальше и… чтобы в той же манере рассказал теперь о том, что касалось бы „нашего двора“, — о том, что происходит на родине» [13]. Этой книгой и должно было стать «Месиво».
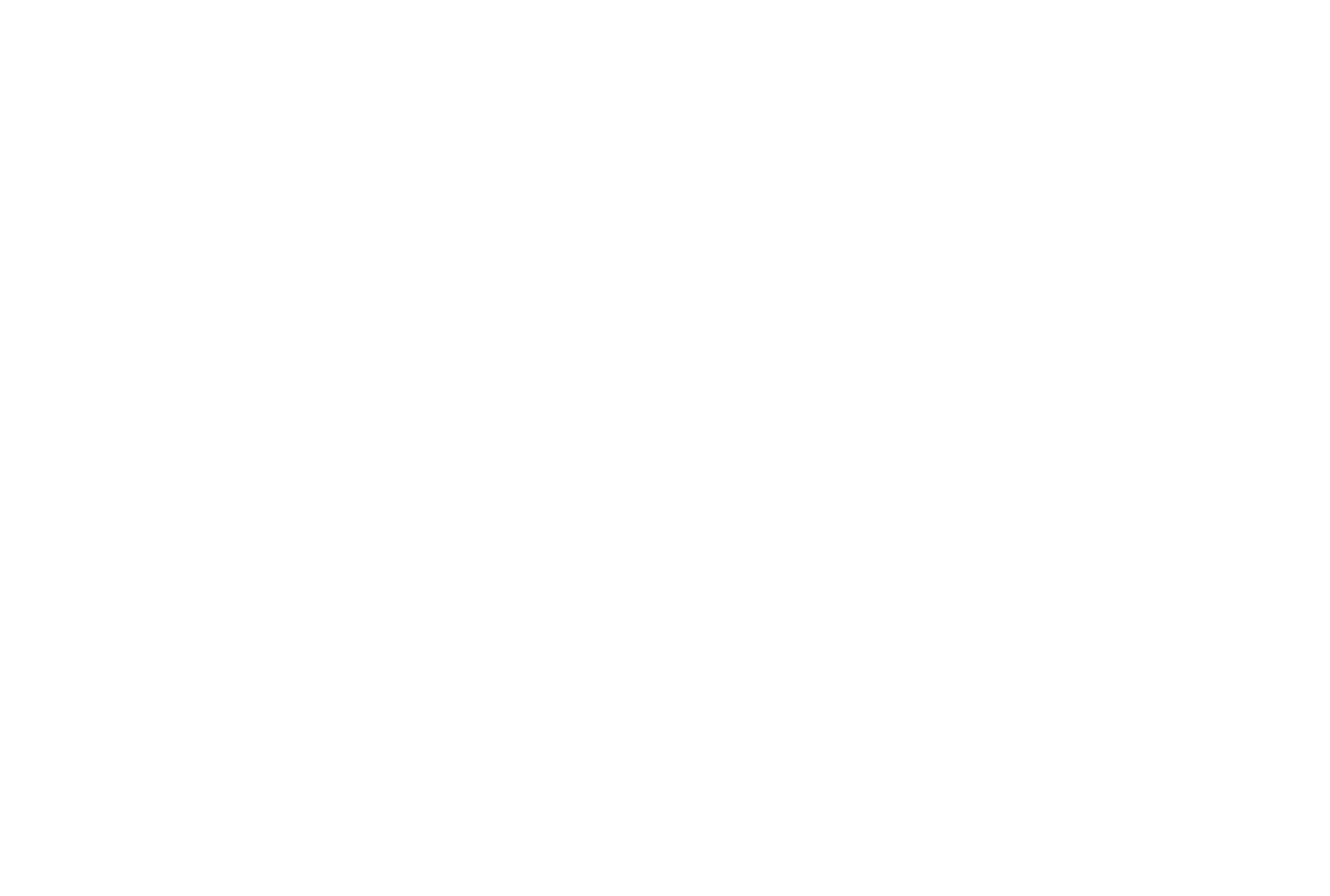
Портрет Пабло Пискассо — прототипа главного героя романа «Идет, скачет по горам»
фото: mentalfloss.com
фото: mentalfloss.com
В 1962 году Анджеевский вновь вернулся к работе над своим давним замыслом, однако теперь сюжет о польском Фаустусе, целиком уступил место совершенно новой идее.
Инспиратором, как это уже не раз бывало раньше, оказался режиссер Анджей Вайда, размышлявший об экранизации знаменитой драмы Станислава Выспяньского «Свадьба». Анджеевский, которому Вайда прочил написание сценария для нового фильма, предложил перенести действие драмы из конца ХIХ века в современность.
Согласно замыслу писателя, современная польская свадьба должна была священными узами брака связать потомка польских аристократов и простую девушку из ансамбля народного танца «Мазовье» (национальные костюмы участников коллектива, по мысли Анджеевского, усилили бы ассоциации с литературным первоисточником).
И хотя творческому союзу двух великих польских художников не суждено было состояться, (Вайда отказался от съемок фильма по «обновленному» сценарию и уже зимой 1963 года поставил классический спектакль по драме Выспяньского в Старом Театре в Кракове), Анджеевский, увлеченный новым замыслом, с головой погрузился в работу.
Меньше чем через год новая повесть была почти готова, и автор заключил с журналом «Твурчость» договор на издание фрагментов произведения. Действие книги разворачивалось во время пышного и многолюдного свадебного торжества, главными героями которого стали сын крупного партийного босса (жених) и девушка «из народа» (невеста). После долгих колебаний Анджеевский присвоил новой книге название «Месиво», которое заготовил когда-то для заброшенного романа о писателе. Редакция журнала анонсировала издание очередного произведения Анджеевского, однако обещанная публикация раз за разом откладывалась.
Позже в авторском предисловии к изданию фрагментов книги в «Твурчости» Анджеевский так объяснял сложившуюся ситуацию: «Если я скажу, что автор весьма амбициозной и масштабной книги, с солидным багажом черновиков и материалов, в какой-то момент зашел в тупик и пребывал в нем достаточно долго, чтобы усомниться в проделанной работе, а выбрался из этой ситуации лишь тогда, когда нашел новый композиционный, (а как следствие, вероятно, также интеллектуальный) принцип, я скажу, наверное, как раз столько, сколько требуется, чтобы объяснить, почему анонс публикации «Месива» несколько месяцев удерживался на обложке «Твурчости». [14]
Новый композиционный и интеллектуальный принцип, о котором пишет Анджеевский, заключался в объединении двух владевших им в то время творческих замыслов: монографии о писателе и истории современной польской свадьбы. В обновленной версии повести Адам Нагурский и другие персонажи несостоявшегося романа о писателе оказывались гостями на свадебном торжестве. Изменился и облик молодоженов: в окончательном варианте Анджеевский «назначил» на роли новобрачных двух варшавских актеров — театрального небожителя Конрада Келлера и дочь влиятельного партийного чиновника, молоденькую дебютантку Монику Панек.
Как и некогда у Выспяньского, многолюдное свадебное торжество в «Месиве» стало поводом усадить за одним столом представителей различных общественных групп и слоев: чиновников от культуры (с секретарем ЦК ПОРП Стефаном Рашевским во главе) и преследуемых ими художников; обласканных властями бездарностей и талантливых писателей, объявленных «враждебными ревизионистами»; стареющих мастеров и эпатажных поэтов из «молодых, да ранних».
Провокационный характер сюжета дополняло портретное сходство многих действующих лиц с реальными прототипами из влиятельных политических и актерских кругов. Все это вполне могло бы стать непреодолимым препятствием на пути «Месива» к печати, если бы не либеральность возглавлявшего в те годы редакцию журнала «Твурчость» Ярослава Ивашкевича, которого связывала с Анджеевским крепкая дружба [15]. Не без содействия Ивашкевича публикация новой повести Анджеевского состоялась в октябре 1966 года.
Напечатанные главы были заявлены как фрагменты будущего большого романа, который, опубликованный целиком, обещал стать не только долгожданной литературной сенсацией, но и поводом для серьезных политических дискуссий.
О всеобщем ажиотаже, вызванном изданием первых глав «Месива» в «Твурчости» Анджеевский узнавал из переписки с друзьями, (осенью 1966 года писатель отправился в долгосрочное турне по Европе — через Германию в Париж). Во время поездки по Германии с ним приключилось нелепое происшествие, неожиданно сказавшееся на судьбе романа: в Штутгарте автомобиль, на котором писатель путешествовал вместе с переводчицей Марией Курецкой, обокрали. Среди похищенных вещей оказалась пишущая машинка Анджеевского и папки с рукописью новых частей романа. Пропавшие записи так никогда и не удалось ни обнаружить, ни восстановить.
Эпизод с похищением рукописи только усилил интерес к роману, обраставшему слухами и легендами еще до издания. Критик Т. Блажеевский писал: «В нашей литературе широко известен и популярен прием, основанный на случайном „обнаружении“ рукописи, которая впоследствии стараниями издателя, подменяющего собой мнимого Автора, становится доступна читающей публике. В данном случае мы имеем дело с обратным приемом: часть рукописи была похищена при таинственных обстоятельствах». [16]
Для самого Анджеевского безвозвратная потеря черновиков оказалась серьезным ударом: в пропавших папках содержалась почти полностью завершенная вторая часть книги и многочисленные заметки к другим разделам. Писатель сразу отказался от мысли восстанавливать утраченный текст. В письме к Ирене Шиманьской Анджеевский размышлял: «Наконец-то мне пришло в голову, каким образом штутгартскую пропажу можно обернуть на пользу книги. Сдается мне, что благодаря всей этой истории вторая часть — та, которая сильнее всего пострадала — будет теперь намного лучше прежней. Это единственный выход — поражения превращать в победы» [17].
Однако, несмотря на оптимистический настрой, писатель долго не мог заставить себя вернуться к прерванной работе над «Месивом». Ближайшие несколько месяцев после пропажи рукописи Анджеевский провел в Париже. Здесь он встречался со старыми друзьями-эмигрантами (З.Хербертом, А. Ватом и др.), много читал, путешествовал, даже принял участие в семинаре по проблемам переводов польской поэзии, — встрече, впервые после войны объединившей польских литераторов, живущих по обе стороны «железного занавеса».
Только в начале 1967 года Анджеевский снова нашел в себе силы вернуться к работе. В Париже он пишет несколько эссе и рассказов, посвященных воспоминаниям о временах войны и оккупации. Некоторые из них — «Много песка и мало» («Dużo piasku imało», 1967); «Молитва» («Modlitwa», 1967) — войдут впоследствии в текст «Месива», став наглядной иллюстрацией творчества одного из центральных героев книги — писателя Адама Нагурского.
Инспиратором, как это уже не раз бывало раньше, оказался режиссер Анджей Вайда, размышлявший об экранизации знаменитой драмы Станислава Выспяньского «Свадьба». Анджеевский, которому Вайда прочил написание сценария для нового фильма, предложил перенести действие драмы из конца ХIХ века в современность.
Согласно замыслу писателя, современная польская свадьба должна была священными узами брака связать потомка польских аристократов и простую девушку из ансамбля народного танца «Мазовье» (национальные костюмы участников коллектива, по мысли Анджеевского, усилили бы ассоциации с литературным первоисточником).
И хотя творческому союзу двух великих польских художников не суждено было состояться, (Вайда отказался от съемок фильма по «обновленному» сценарию и уже зимой 1963 года поставил классический спектакль по драме Выспяньского в Старом Театре в Кракове), Анджеевский, увлеченный новым замыслом, с головой погрузился в работу.
Меньше чем через год новая повесть была почти готова, и автор заключил с журналом «Твурчость» договор на издание фрагментов произведения. Действие книги разворачивалось во время пышного и многолюдного свадебного торжества, главными героями которого стали сын крупного партийного босса (жених) и девушка «из народа» (невеста). После долгих колебаний Анджеевский присвоил новой книге название «Месиво», которое заготовил когда-то для заброшенного романа о писателе. Редакция журнала анонсировала издание очередного произведения Анджеевского, однако обещанная публикация раз за разом откладывалась.
Позже в авторском предисловии к изданию фрагментов книги в «Твурчости» Анджеевский так объяснял сложившуюся ситуацию: «Если я скажу, что автор весьма амбициозной и масштабной книги, с солидным багажом черновиков и материалов, в какой-то момент зашел в тупик и пребывал в нем достаточно долго, чтобы усомниться в проделанной работе, а выбрался из этой ситуации лишь тогда, когда нашел новый композиционный, (а как следствие, вероятно, также интеллектуальный) принцип, я скажу, наверное, как раз столько, сколько требуется, чтобы объяснить, почему анонс публикации «Месива» несколько месяцев удерживался на обложке «Твурчости». [14]
Новый композиционный и интеллектуальный принцип, о котором пишет Анджеевский, заключался в объединении двух владевших им в то время творческих замыслов: монографии о писателе и истории современной польской свадьбы. В обновленной версии повести Адам Нагурский и другие персонажи несостоявшегося романа о писателе оказывались гостями на свадебном торжестве. Изменился и облик молодоженов: в окончательном варианте Анджеевский «назначил» на роли новобрачных двух варшавских актеров — театрального небожителя Конрада Келлера и дочь влиятельного партийного чиновника, молоденькую дебютантку Монику Панек.
Как и некогда у Выспяньского, многолюдное свадебное торжество в «Месиве» стало поводом усадить за одним столом представителей различных общественных групп и слоев: чиновников от культуры (с секретарем ЦК ПОРП Стефаном Рашевским во главе) и преследуемых ими художников; обласканных властями бездарностей и талантливых писателей, объявленных «враждебными ревизионистами»; стареющих мастеров и эпатажных поэтов из «молодых, да ранних».
Провокационный характер сюжета дополняло портретное сходство многих действующих лиц с реальными прототипами из влиятельных политических и актерских кругов. Все это вполне могло бы стать непреодолимым препятствием на пути «Месива» к печати, если бы не либеральность возглавлявшего в те годы редакцию журнала «Твурчость» Ярослава Ивашкевича, которого связывала с Анджеевским крепкая дружба [15]. Не без содействия Ивашкевича публикация новой повести Анджеевского состоялась в октябре 1966 года.
Напечатанные главы были заявлены как фрагменты будущего большого романа, который, опубликованный целиком, обещал стать не только долгожданной литературной сенсацией, но и поводом для серьезных политических дискуссий.
О всеобщем ажиотаже, вызванном изданием первых глав «Месива» в «Твурчости» Анджеевский узнавал из переписки с друзьями, (осенью 1966 года писатель отправился в долгосрочное турне по Европе — через Германию в Париж). Во время поездки по Германии с ним приключилось нелепое происшествие, неожиданно сказавшееся на судьбе романа: в Штутгарте автомобиль, на котором писатель путешествовал вместе с переводчицей Марией Курецкой, обокрали. Среди похищенных вещей оказалась пишущая машинка Анджеевского и папки с рукописью новых частей романа. Пропавшие записи так никогда и не удалось ни обнаружить, ни восстановить.
Эпизод с похищением рукописи только усилил интерес к роману, обраставшему слухами и легендами еще до издания. Критик Т. Блажеевский писал: «В нашей литературе широко известен и популярен прием, основанный на случайном „обнаружении“ рукописи, которая впоследствии стараниями издателя, подменяющего собой мнимого Автора, становится доступна читающей публике. В данном случае мы имеем дело с обратным приемом: часть рукописи была похищена при таинственных обстоятельствах». [16]
Для самого Анджеевского безвозвратная потеря черновиков оказалась серьезным ударом: в пропавших папках содержалась почти полностью завершенная вторая часть книги и многочисленные заметки к другим разделам. Писатель сразу отказался от мысли восстанавливать утраченный текст. В письме к Ирене Шиманьской Анджеевский размышлял: «Наконец-то мне пришло в голову, каким образом штутгартскую пропажу можно обернуть на пользу книги. Сдается мне, что благодаря всей этой истории вторая часть — та, которая сильнее всего пострадала — будет теперь намного лучше прежней. Это единственный выход — поражения превращать в победы» [17].
Однако, несмотря на оптимистический настрой, писатель долго не мог заставить себя вернуться к прерванной работе над «Месивом». Ближайшие несколько месяцев после пропажи рукописи Анджеевский провел в Париже. Здесь он встречался со старыми друзьями-эмигрантами (З.Хербертом, А. Ватом и др.), много читал, путешествовал, даже принял участие в семинаре по проблемам переводов польской поэзии, — встрече, впервые после войны объединившей польских литераторов, живущих по обе стороны «железного занавеса».
Только в начале 1967 года Анджеевский снова нашел в себе силы вернуться к работе. В Париже он пишет несколько эссе и рассказов, посвященных воспоминаниям о временах войны и оккупации. Некоторые из них — «Много песка и мало» («Dużo piasku imało», 1967); «Молитва» («Modlitwa», 1967) — войдут впоследствии в текст «Месива», став наглядной иллюстрацией творчества одного из центральных героев книги — писателя Адама Нагурского.
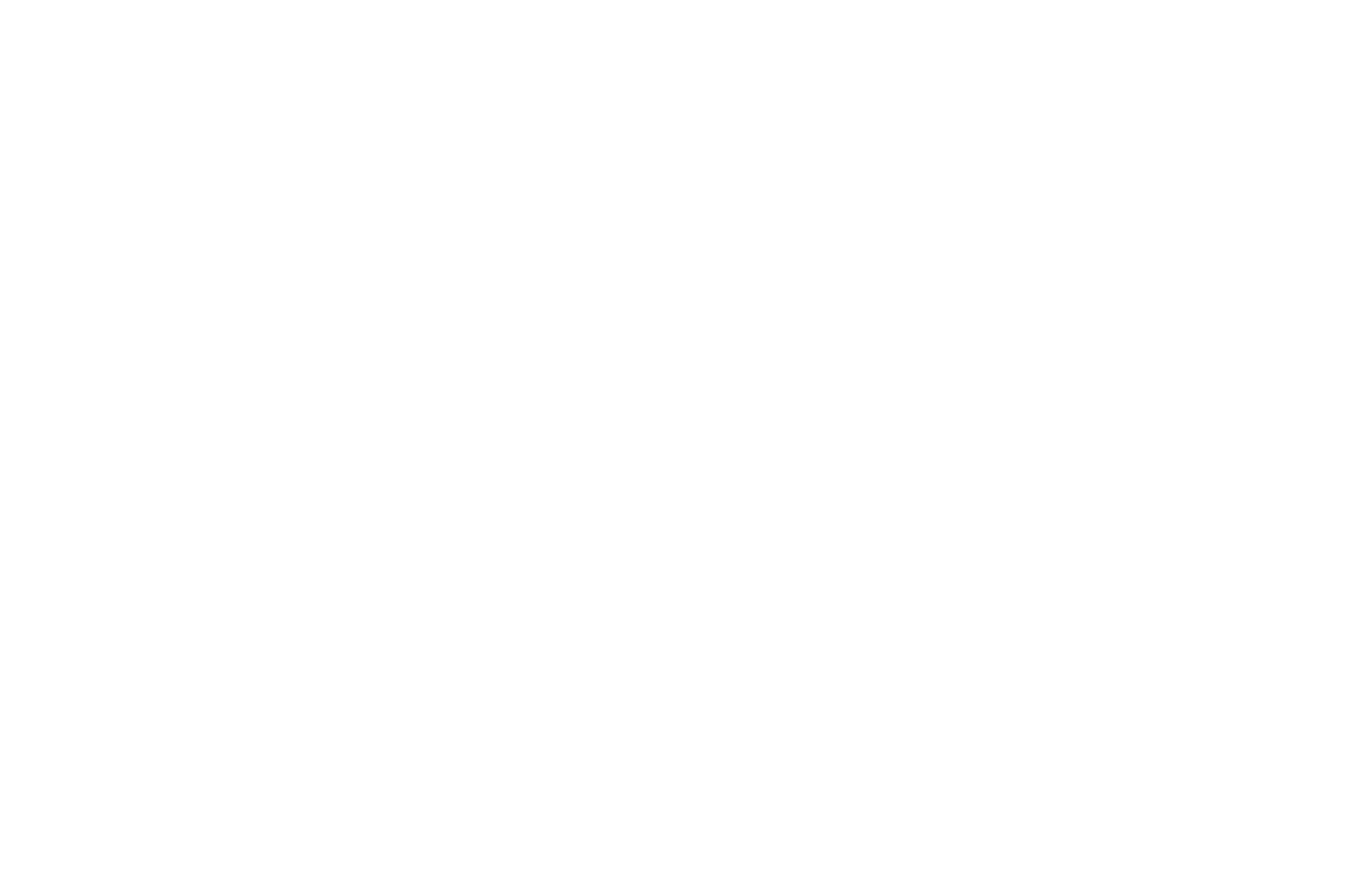
Фрагмент рукописи рассказа «Много песка и мало»
источник: bn.org.pl
источник: bn.org.pl
Анджеевский вернулся на родину летом 1967 года, и уже через пару месяцев попал в больницу — на курс лечения от алкоголизма, который давно и серьезно подорвал здоровье писателя. В клинике ему довелось познакомиться с любопытной историей болезни, которая легла в основу сюжета очередной книги.
Главным героем новой повести Анджеевского, получившей название «Апелляция» («Apelacja»), стал «некий Мариан Конечный, сорока одного года, женатый, по профессии технолог мясной промышленности, теперь на пенсии», [18] пациент Психосоматической клиники при Городской больнице № 9 в Т.
Как следует из рассказа самого Конечного, он — рядовой польский гражданин, бывший комендант народной милиции, аковец, позже мелкий чиновник (начальник госхоза) — вот уже много лет находится под наблюдением агентов иностранной контрразведки и, возможно, даже «электронного мозга». Конечный убежден, что за ним установлена постоянная слежка, в которой участвует, как он сам подсчитал, до 30 тысяч человек.
Доведенный до отчаяния этим мнимым наблюдением, герой решается на последний шаг — пишет апелляцию самому Гражданину Первому Секретарю ЦК ПОРП, в которой излагает историю всей своей непростой жизни, чтобы Гражданин Первый Секретарь лично убедился в его непорочности и чистоте, чтобы сняли с него «эту несправедливую слежку, а виновные в нарушении правопорядка чтобы понесли надлежащее наказание» (Апелляция, c.272).
Конечный взывает к милосердию Гражданина Первого Секретаря, демонстрируя идеалистическую веру в могущество и непогрешимость власти, некогда близкую и самому Анджеевскому.
«Я всегда поддерживал наш строй и Народную власть, состою в Профессиональном союзе с момента начала трудовой деятельности, т. е. с пятнадцати лет, с военного учета меня сняли по состоянию здоровья, но как бывший партизан являюсь членом Союза борцов за свободу и демократию, а также членом объединенной крестьянской партии, всегда отличался сознательностью и гражданственностью, <…> и поэтому умоляю Вас, Гражданин Первый Секретарь, рассмотрите мою Апелляцию, как справедливый и любящий отец,… у меня хотя и нет высшего образования, но я знаю, что Вы, как радетельный хозяин, следите за каждым, даже самым маленьким колоском, чтобы ни одно зернышко не пропало, ибо все мы, сыны и дочери Народной Польши, подобны огромной волнистой ниве, Вы же — солнце, которое греет и ускоряет процесс созревания…» — пишет Конечный (Апелляция, c.382).
Как видно из приведенного выше фрагмента, воспроизводя речь Конечного, Анджеевский мастерски стилизует повествование под специфику спутанного сознания душевнобольного, не способного формулировать логически завершенную мысль, а также засоряющего свою полуграмотную речь претендующими на «правильность» пафосными оборотами, почерпнутыми из лексики официальной прессы. Все это создает в повести ярко выраженный комический эффект (вербальный комизм). Однако сбивчивый рассказ параноика Конечного только на первый взгляд представляется анекдотичным.
Благодаря введению персонифицированного героя-рассказчика, который принципиально отстоит от автора и не может с ним слиться, повествование в «Апелляции» имеет явно выраженный сказовый характер, а в сказе, как известно, лицо автора скрыто, и отношение автора к рассказчику вырастает, главным образом, из того, что и как рассказывает о себе он сам.
Герой-рассказчик в «Апелляции» — малообразованный, напуганный, к тому же психически нездоровый «маленький человек», однако чувствует и понимает он значительно глубже и тоньше, нежели это ему удается словесно выразить. Силовое поле, возникающее между Конечным как героем-рассказчиком и самим Анджеевским как писателем, — вот где складывается и доходит до читателя полнота авторского мироотношения, авторской позиции.
Развитие действия в «Апелляции» строится на противоречии между тем, чтоговорит герой-рассказчик и тем, что просвечивает сквозь его слова, сквозь его манеру высказываться.
История Конечного, рассказанная им «как на духу», с обезоруживающей искренностью и простотой, без приукрашиваний и утайки, открывает читателю всю правду об устрашении, шантаже, подкупах и злоупотреблениях государственных чиновников и безнадежном, нищенском существовании рядовой польской семьи.
Как пишет А. Сынорадзкая, «судьба героя оказывается синтезом основных проблем двадцатилетней истории ПНР. На фоне личных перипетий пишущего апелляцию видна страна, управляемая террором, система „справедливости“, основанная на надуманных обвинениях, судьбы аковцев, осужденных в поспешных процессах на основе абсурдных упреков и ложных признаний подставных свидетелей» [19].
Герой «Апелляции», подростком, почти мальчишкой, попавший в лапы гестапо, переживший ужас допросов и избиений и незаслуженно осужденный после войны, вынужден ютиться с женой и тремя маленькими детьми в качестве приживала в квартире у шурина: «Мы с женой и сыновьями живем у шурина, жениного брата Виктора Томашевского, квартирка маленькая, две комнаты с кухней, метраж 34 метра, к тому же 6-ой этаж <…> у шурина Виктора Томашевского тоже трое детей, сын и две дочки…» (Апелляция, с.367). В этом бытовом аду он мечтает о простых и светлых вещах — счастливом будущем для своих детей: «Я бы спокойно простился с жизнью, если бы дождался счастливой минуты, когда мои сыновья подрастут, Олек станет судьей, Янек астрономом, а Михал знаменитым танцором…» (Апелляция, с.393). Такой герой не может не вызывать сочувствия — как авторского, так и читательского.
Однако суть сюжетного движения повести в том, что Конечный оказывается не только жертвой, но и созидателем калечащей его системы, незаменимым «винтиком» в беспощадной тоталитарной машине. Здесь Анджеевский вновь возвращается к мысли о том, что система как таковая существует только благодаря тому, что существуют «люди системы», к мысли, ставшей в свое время одним из главных тезисов романа «Мрак покрывает землю», речь о котором шла в Главе 3.
В своей апелляции Конечный простодушно рассказывает о том, как, оказавшись однажды в роли начальника, он с целью «поднять производительность труда, а также моральный и идейный уровень» сотрудников с помощью «нескольких преданных лиц» собирал информацию обо всех подчиненных, «касательно их работы по специальности, а также стиля жизни в нерабочее время» (Апелляция, с.382). В своих действиях герой якобы опирался на «правильный марксистский тезис о том, что, желая поднять людей на высокую ступень, надо сначала все о них узнать» (Апелляция, с.382), но вскоре был осужден за «групповщину, диктаторские замашки, а также нарушение принципов социалистической морали» (Апелляция, с.382).
«Безумная» действительность современной Польши парадоксальным образом уравнивает жертву и угнетателя, гонимого и гонителя. В. Британишский тонко подмечает, что «обращаясь с апелляцией, Конечный ждет не столько оправдания его самого, сколько наказания „виновных“, наказания его „врагов“, всех 30 тысяч» [20].
Тот же Британишский справедливо указывает на внутреннюю связь сюжета повести Анджеевского с сюжетом, вероятно, самого знаменитого в мире произведения о психиатрической больнице и душевнобольных — легендарного романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» [21].
Роман Кизи был написан в 1962 году и стал в Америке 1960−70-ых годов своеобразным гимном свободе, силе духа, инакомыслию. Метафорой несвободы в книге американского писателя явилось само замкнутое пространство психиатрической лечебницы, в которое попадает дебошир Макмерфи — заключенный, симулирующий безумие, чтобы избежать более сурового наказания.
Неистовый Мак вступает в активное противостояние с нелепыми, а нередко жестокими правилами и ограничениями больницы, в результате чего даже самые «забитые» и забытые пациенты начинают оживать и заново чувствовать себя полноценными людьми. История Макмерфи заканчивается трагически — ему принудительно делают лаботамию, фактически превращая «в растение». Но Кизи оставляет читателю надежду: один из героев романа, «разбуженный» Макмерфи, вырывается за пределы лечебницы и отправляется навстречу вновь обретенной свободе.
В повести Анджеевского тема свободы также занимает одно из ключевых мест, однако решается иначе, нежели в романе Кизи. Герой «Апелляции» Мариан Конечный принадлежит к числу тех больных, которые еще не встретили своего Макмерфи и, вероятно, пока не готовы к встрече с ним. Свободу героя ограничивают не стены и порядки больницы, (психосоматическая клиника в Т., где проходит лечение Конечный, представляется ему самым радостным и приветливым местом на земле, главный врач больницы доктор Гвара — гуманист и мягкий, душевный человек). Свободу Конечного ограничивает сама его болезнь — «главная болезнь ХХ века: мания преследования» [22].
В финале повести Анджеевский не оставляет читателю никаких иллюзий. Отправив свою апелляцию, Конечный в больнице ожидает ответа от Гражданина Первого Секретаря, и вскоре ответ приходит. В официальном письме сообщается, что Конечный вне подозрений, никаких претензий у Партии и Правительства к нему нет, никакой слежки за ним не ведется, а значит, и наказывать или оправдывать некого. Для героя это, казалось бы, утешительное известие становится последним ударом: Конечный уверен, что в заговор против него замешаны даже первые лица государства, а значит, помощи ждать неоткуда. Прочитав письмо, герой впадает в глубокое безумие и окончательно теряет связь с реальностью. Болезнь оказывается неизлечимой.
Как пишет Британишский: «Безумие Конечного — результат всей его жизни, результат больной действительности ХХ века. Результат и символ. В своем безумии Конечный — „нормален“, ненормальна действительность, которая его сформировала» [23].
У Анджеевского были веские основания полагать, что путь «Апелляции» к читателю не будет легким. В ноябре 1967 года Анджеевский начинает переговоры с издательствами. Издательство «Чительник» («Czytelnik») сразу отказалось от рукописи, текст повести был принят к рассмотрению в редакции журнала «Твурчость», но публикацию приостановило Главное управление контроля над прессой.
Осень 1968 года, окончательно убедившись, что издание повести в стране неосуществимо, Анджеевский передал рукопись «Апелляции» в редакцию парижской «Культуры», возглавляемой Ежи Гедройцем. В том же году повесть была издана в Париже под именем автора — первый раз за всю историю сотрудничества польских писателей с эмигрантскими журналами (до сих пор произведения поляков, издаваемые за границей, всегда выходили под вымышленными именами).
В это же время писатель вновь, после долгого перерыва, возвращается к работе над «Месивом».
Главным героем новой повести Анджеевского, получившей название «Апелляция» («Apelacja»), стал «некий Мариан Конечный, сорока одного года, женатый, по профессии технолог мясной промышленности, теперь на пенсии», [18] пациент Психосоматической клиники при Городской больнице № 9 в Т.
Как следует из рассказа самого Конечного, он — рядовой польский гражданин, бывший комендант народной милиции, аковец, позже мелкий чиновник (начальник госхоза) — вот уже много лет находится под наблюдением агентов иностранной контрразведки и, возможно, даже «электронного мозга». Конечный убежден, что за ним установлена постоянная слежка, в которой участвует, как он сам подсчитал, до 30 тысяч человек.
Доведенный до отчаяния этим мнимым наблюдением, герой решается на последний шаг — пишет апелляцию самому Гражданину Первому Секретарю ЦК ПОРП, в которой излагает историю всей своей непростой жизни, чтобы Гражданин Первый Секретарь лично убедился в его непорочности и чистоте, чтобы сняли с него «эту несправедливую слежку, а виновные в нарушении правопорядка чтобы понесли надлежащее наказание» (Апелляция, c.272).
Конечный взывает к милосердию Гражданина Первого Секретаря, демонстрируя идеалистическую веру в могущество и непогрешимость власти, некогда близкую и самому Анджеевскому.
«Я всегда поддерживал наш строй и Народную власть, состою в Профессиональном союзе с момента начала трудовой деятельности, т. е. с пятнадцати лет, с военного учета меня сняли по состоянию здоровья, но как бывший партизан являюсь членом Союза борцов за свободу и демократию, а также членом объединенной крестьянской партии, всегда отличался сознательностью и гражданственностью, <…> и поэтому умоляю Вас, Гражданин Первый Секретарь, рассмотрите мою Апелляцию, как справедливый и любящий отец,… у меня хотя и нет высшего образования, но я знаю, что Вы, как радетельный хозяин, следите за каждым, даже самым маленьким колоском, чтобы ни одно зернышко не пропало, ибо все мы, сыны и дочери Народной Польши, подобны огромной волнистой ниве, Вы же — солнце, которое греет и ускоряет процесс созревания…» — пишет Конечный (Апелляция, c.382).
Как видно из приведенного выше фрагмента, воспроизводя речь Конечного, Анджеевский мастерски стилизует повествование под специфику спутанного сознания душевнобольного, не способного формулировать логически завершенную мысль, а также засоряющего свою полуграмотную речь претендующими на «правильность» пафосными оборотами, почерпнутыми из лексики официальной прессы. Все это создает в повести ярко выраженный комический эффект (вербальный комизм). Однако сбивчивый рассказ параноика Конечного только на первый взгляд представляется анекдотичным.
Благодаря введению персонифицированного героя-рассказчика, который принципиально отстоит от автора и не может с ним слиться, повествование в «Апелляции» имеет явно выраженный сказовый характер, а в сказе, как известно, лицо автора скрыто, и отношение автора к рассказчику вырастает, главным образом, из того, что и как рассказывает о себе он сам.
Герой-рассказчик в «Апелляции» — малообразованный, напуганный, к тому же психически нездоровый «маленький человек», однако чувствует и понимает он значительно глубже и тоньше, нежели это ему удается словесно выразить. Силовое поле, возникающее между Конечным как героем-рассказчиком и самим Анджеевским как писателем, — вот где складывается и доходит до читателя полнота авторского мироотношения, авторской позиции.
Развитие действия в «Апелляции» строится на противоречии между тем, чтоговорит герой-рассказчик и тем, что просвечивает сквозь его слова, сквозь его манеру высказываться.
История Конечного, рассказанная им «как на духу», с обезоруживающей искренностью и простотой, без приукрашиваний и утайки, открывает читателю всю правду об устрашении, шантаже, подкупах и злоупотреблениях государственных чиновников и безнадежном, нищенском существовании рядовой польской семьи.
Как пишет А. Сынорадзкая, «судьба героя оказывается синтезом основных проблем двадцатилетней истории ПНР. На фоне личных перипетий пишущего апелляцию видна страна, управляемая террором, система „справедливости“, основанная на надуманных обвинениях, судьбы аковцев, осужденных в поспешных процессах на основе абсурдных упреков и ложных признаний подставных свидетелей» [19].
Герой «Апелляции», подростком, почти мальчишкой, попавший в лапы гестапо, переживший ужас допросов и избиений и незаслуженно осужденный после войны, вынужден ютиться с женой и тремя маленькими детьми в качестве приживала в квартире у шурина: «Мы с женой и сыновьями живем у шурина, жениного брата Виктора Томашевского, квартирка маленькая, две комнаты с кухней, метраж 34 метра, к тому же 6-ой этаж <…> у шурина Виктора Томашевского тоже трое детей, сын и две дочки…» (Апелляция, с.367). В этом бытовом аду он мечтает о простых и светлых вещах — счастливом будущем для своих детей: «Я бы спокойно простился с жизнью, если бы дождался счастливой минуты, когда мои сыновья подрастут, Олек станет судьей, Янек астрономом, а Михал знаменитым танцором…» (Апелляция, с.393). Такой герой не может не вызывать сочувствия — как авторского, так и читательского.
Однако суть сюжетного движения повести в том, что Конечный оказывается не только жертвой, но и созидателем калечащей его системы, незаменимым «винтиком» в беспощадной тоталитарной машине. Здесь Анджеевский вновь возвращается к мысли о том, что система как таковая существует только благодаря тому, что существуют «люди системы», к мысли, ставшей в свое время одним из главных тезисов романа «Мрак покрывает землю», речь о котором шла в Главе 3.
В своей апелляции Конечный простодушно рассказывает о том, как, оказавшись однажды в роли начальника, он с целью «поднять производительность труда, а также моральный и идейный уровень» сотрудников с помощью «нескольких преданных лиц» собирал информацию обо всех подчиненных, «касательно их работы по специальности, а также стиля жизни в нерабочее время» (Апелляция, с.382). В своих действиях герой якобы опирался на «правильный марксистский тезис о том, что, желая поднять людей на высокую ступень, надо сначала все о них узнать» (Апелляция, с.382), но вскоре был осужден за «групповщину, диктаторские замашки, а также нарушение принципов социалистической морали» (Апелляция, с.382).
«Безумная» действительность современной Польши парадоксальным образом уравнивает жертву и угнетателя, гонимого и гонителя. В. Британишский тонко подмечает, что «обращаясь с апелляцией, Конечный ждет не столько оправдания его самого, сколько наказания „виновных“, наказания его „врагов“, всех 30 тысяч» [20].
Тот же Британишский справедливо указывает на внутреннюю связь сюжета повести Анджеевского с сюжетом, вероятно, самого знаменитого в мире произведения о психиатрической больнице и душевнобольных — легендарного романа Кена Кизи «Полет над гнездом кукушки» [21].
Роман Кизи был написан в 1962 году и стал в Америке 1960−70-ых годов своеобразным гимном свободе, силе духа, инакомыслию. Метафорой несвободы в книге американского писателя явилось само замкнутое пространство психиатрической лечебницы, в которое попадает дебошир Макмерфи — заключенный, симулирующий безумие, чтобы избежать более сурового наказания.
Неистовый Мак вступает в активное противостояние с нелепыми, а нередко жестокими правилами и ограничениями больницы, в результате чего даже самые «забитые» и забытые пациенты начинают оживать и заново чувствовать себя полноценными людьми. История Макмерфи заканчивается трагически — ему принудительно делают лаботамию, фактически превращая «в растение». Но Кизи оставляет читателю надежду: один из героев романа, «разбуженный» Макмерфи, вырывается за пределы лечебницы и отправляется навстречу вновь обретенной свободе.
В повести Анджеевского тема свободы также занимает одно из ключевых мест, однако решается иначе, нежели в романе Кизи. Герой «Апелляции» Мариан Конечный принадлежит к числу тех больных, которые еще не встретили своего Макмерфи и, вероятно, пока не готовы к встрече с ним. Свободу героя ограничивают не стены и порядки больницы, (психосоматическая клиника в Т., где проходит лечение Конечный, представляется ему самым радостным и приветливым местом на земле, главный врач больницы доктор Гвара — гуманист и мягкий, душевный человек). Свободу Конечного ограничивает сама его болезнь — «главная болезнь ХХ века: мания преследования» [22].
В финале повести Анджеевский не оставляет читателю никаких иллюзий. Отправив свою апелляцию, Конечный в больнице ожидает ответа от Гражданина Первого Секретаря, и вскоре ответ приходит. В официальном письме сообщается, что Конечный вне подозрений, никаких претензий у Партии и Правительства к нему нет, никакой слежки за ним не ведется, а значит, и наказывать или оправдывать некого. Для героя это, казалось бы, утешительное известие становится последним ударом: Конечный уверен, что в заговор против него замешаны даже первые лица государства, а значит, помощи ждать неоткуда. Прочитав письмо, герой впадает в глубокое безумие и окончательно теряет связь с реальностью. Болезнь оказывается неизлечимой.
Как пишет Британишский: «Безумие Конечного — результат всей его жизни, результат больной действительности ХХ века. Результат и символ. В своем безумии Конечный — „нормален“, ненормальна действительность, которая его сформировала» [23].
У Анджеевского были веские основания полагать, что путь «Апелляции» к читателю не будет легким. В ноябре 1967 года Анджеевский начинает переговоры с издательствами. Издательство «Чительник» («Czytelnik») сразу отказалось от рукописи, текст повести был принят к рассмотрению в редакции журнала «Твурчость», но публикацию приостановило Главное управление контроля над прессой.
Осень 1968 года, окончательно убедившись, что издание повести в стране неосуществимо, Анджеевский передал рукопись «Апелляции» в редакцию парижской «Культуры», возглавляемой Ежи Гедройцем. В том же году повесть была издана в Париже под именем автора — первый раз за всю историю сотрудничества польских писателей с эмигрантскими журналами (до сих пор произведения поляков, издаваемые за границей, всегда выходили под вымышленными именами).
В это же время писатель вновь, после долгого перерыва, возвращается к работе над «Месивом».
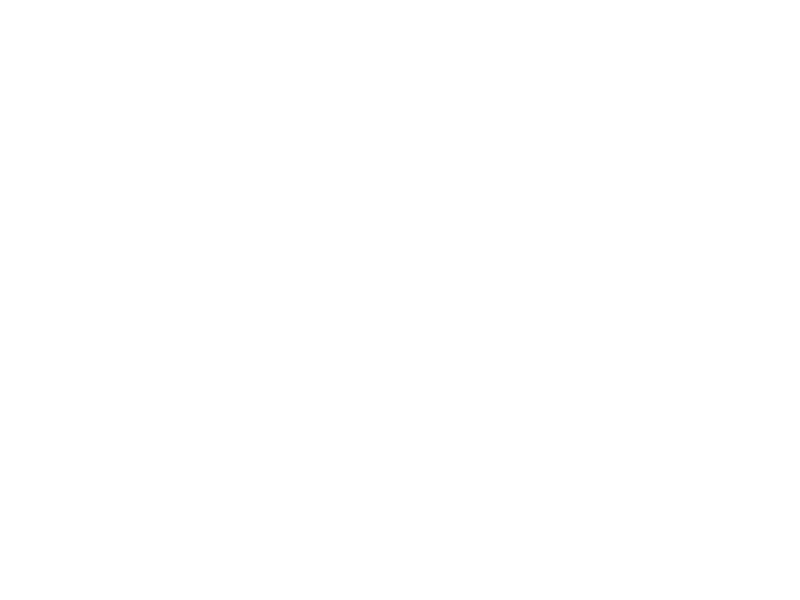
Роман, задуманный Анджеевским как книга о современной Польше, впитавший немало актуальных политических и культурных тем и аллюзий своего времени, не мог не измениться за те годы, в течение которых то шла, то прерывалась работа над ним.
Громкие политические события 1968-ого и позже начала 1970-ых годов, круто изменившие жизненный и творческий путь самого Анджеевского, отразились и на его последнем большом романе: вошли в судьбы героев, скорректировали сюжет, заставили писателя переосмыслить многие из заложенных в книгу авторских посылов.
В «Месиве» редакции 1966 года тема конфронтации творческой интеллигенции и власти была поводом для демонстрации отчужденности и непонимания между двумя важнейшими общественными элитами, или, говоря словами А. Сынорадзкой-Демадр, поводом показать «отсутствие воли к установлению диалога» [24].
Роман версии 1970-ого года демонстрирует последствия тогдашего непонимания, когда былая отчужденность вылилась в неприкрытую ненависть и недоверие друг к другу. «В новой редакции слово „враг“ стало неизменным элементом речи партийных чиновников» [25] - пишет Сынорадзкая-Демадр.
Роман представлял теперь элиту, разбитую на глубоко враждебные, практически непримиримые группы, живущие фальшивыми иллюзиями и приземленными амбициями, мир людей с искаженными ценностями и перекошенной моралью.
Существенной переработке подверглись и биографии многих героев: некоторые из них получили новые фамилии, должности, черты характера. Ксаверий Панек, фигурировавший в версии 1966 года как оппозиционно настроенный сотрудник кафедры новейшей истории в Варшавском университете, в окончательной версии романа оказался безработным интеллектуалом, как и многие его коллеги, выброшенным из Университета после участия в мартовских акциях протеста и вынужденным зарабатывать на жизнь в качестве «литературного негра» — автора чужих диссертаций.
В судьбе семьи дирижера Павла Яцковского нашли отражение антисемитские чистки, ставшие поводом для массовой эмиграции евреев из Польши. Из-за вынужденного отъезда Яцковских, в частности, распадется молодая влюбленная пара Антек Рашевский и Магда Яцковская, (оба героя появились только в поздней версии романа).
Наиболее яркие представители творческой интеллигенции — писатель Адам Нагурский и режиссер Эрик Ванерт — также ощутили на себе последствия мартовских событий: в редакции 1970 года зачисленный в круг «враждебных ревизионистов» Нагурский не имеет возможности публиковать свои произведения, а дискредитировавший себя в глазах властей Ванерт — снимать фильмы. Оба они мучительно страдают из-за отсутствия контакта с аудиторией, столь необходимого для художника и столь понятного самому Анджеевскому.
Появилась в финальной редакции романа и новая по сравнению с фрагментами 1966 года фигура театрального режиссера Романа Горбатого — автора наделавшей шуму театральной постановки, со скандалом снятой со сцены по решению властей. Развитие этой сюжетной линии стало возможно только после 1968 года, когда запрет постановки «Дзядов» Мицкевича в Театре Народовом в Варшаве спровоцировал волну массовых протестов.
Значительной модификации подверглась и структура и принцип организации текста. Помимо того, что Анджеевский существенно расширил материал, опубликованный в 1966 году в «Твручости», добавив к нему новые большие главы (хотя фрагменты, утерянные в Штуттгарте, так и не были восстановлены), писатель включил в текст «Месива» заметки из своего личного дневника, придав книге совершенно новую, оригинальную форму.
Громкие политические события 1968-ого и позже начала 1970-ых годов, круто изменившие жизненный и творческий путь самого Анджеевского, отразились и на его последнем большом романе: вошли в судьбы героев, скорректировали сюжет, заставили писателя переосмыслить многие из заложенных в книгу авторских посылов.
В «Месиве» редакции 1966 года тема конфронтации творческой интеллигенции и власти была поводом для демонстрации отчужденности и непонимания между двумя важнейшими общественными элитами, или, говоря словами А. Сынорадзкой-Демадр, поводом показать «отсутствие воли к установлению диалога» [24].
Роман версии 1970-ого года демонстрирует последствия тогдашего непонимания, когда былая отчужденность вылилась в неприкрытую ненависть и недоверие друг к другу. «В новой редакции слово „враг“ стало неизменным элементом речи партийных чиновников» [25] - пишет Сынорадзкая-Демадр.
Роман представлял теперь элиту, разбитую на глубоко враждебные, практически непримиримые группы, живущие фальшивыми иллюзиями и приземленными амбициями, мир людей с искаженными ценностями и перекошенной моралью.
Существенной переработке подверглись и биографии многих героев: некоторые из них получили новые фамилии, должности, черты характера. Ксаверий Панек, фигурировавший в версии 1966 года как оппозиционно настроенный сотрудник кафедры новейшей истории в Варшавском университете, в окончательной версии романа оказался безработным интеллектуалом, как и многие его коллеги, выброшенным из Университета после участия в мартовских акциях протеста и вынужденным зарабатывать на жизнь в качестве «литературного негра» — автора чужих диссертаций.
В судьбе семьи дирижера Павла Яцковского нашли отражение антисемитские чистки, ставшие поводом для массовой эмиграции евреев из Польши. Из-за вынужденного отъезда Яцковских, в частности, распадется молодая влюбленная пара Антек Рашевский и Магда Яцковская, (оба героя появились только в поздней версии романа).
Наиболее яркие представители творческой интеллигенции — писатель Адам Нагурский и режиссер Эрик Ванерт — также ощутили на себе последствия мартовских событий: в редакции 1970 года зачисленный в круг «враждебных ревизионистов» Нагурский не имеет возможности публиковать свои произведения, а дискредитировавший себя в глазах властей Ванерт — снимать фильмы. Оба они мучительно страдают из-за отсутствия контакта с аудиторией, столь необходимого для художника и столь понятного самому Анджеевскому.
Появилась в финальной редакции романа и новая по сравнению с фрагментами 1966 года фигура театрального режиссера Романа Горбатого — автора наделавшей шуму театральной постановки, со скандалом снятой со сцены по решению властей. Развитие этой сюжетной линии стало возможно только после 1968 года, когда запрет постановки «Дзядов» Мицкевича в Театре Народовом в Варшаве спровоцировал волну массовых протестов.
Значительной модификации подверглась и структура и принцип организации текста. Помимо того, что Анджеевский существенно расширил материал, опубликованный в 1966 году в «Твручости», добавив к нему новые большие главы (хотя фрагменты, утерянные в Штуттгарте, так и не были восстановлены), писатель включил в текст «Месива» заметки из своего личного дневника, придав книге совершенно новую, оригинальную форму.
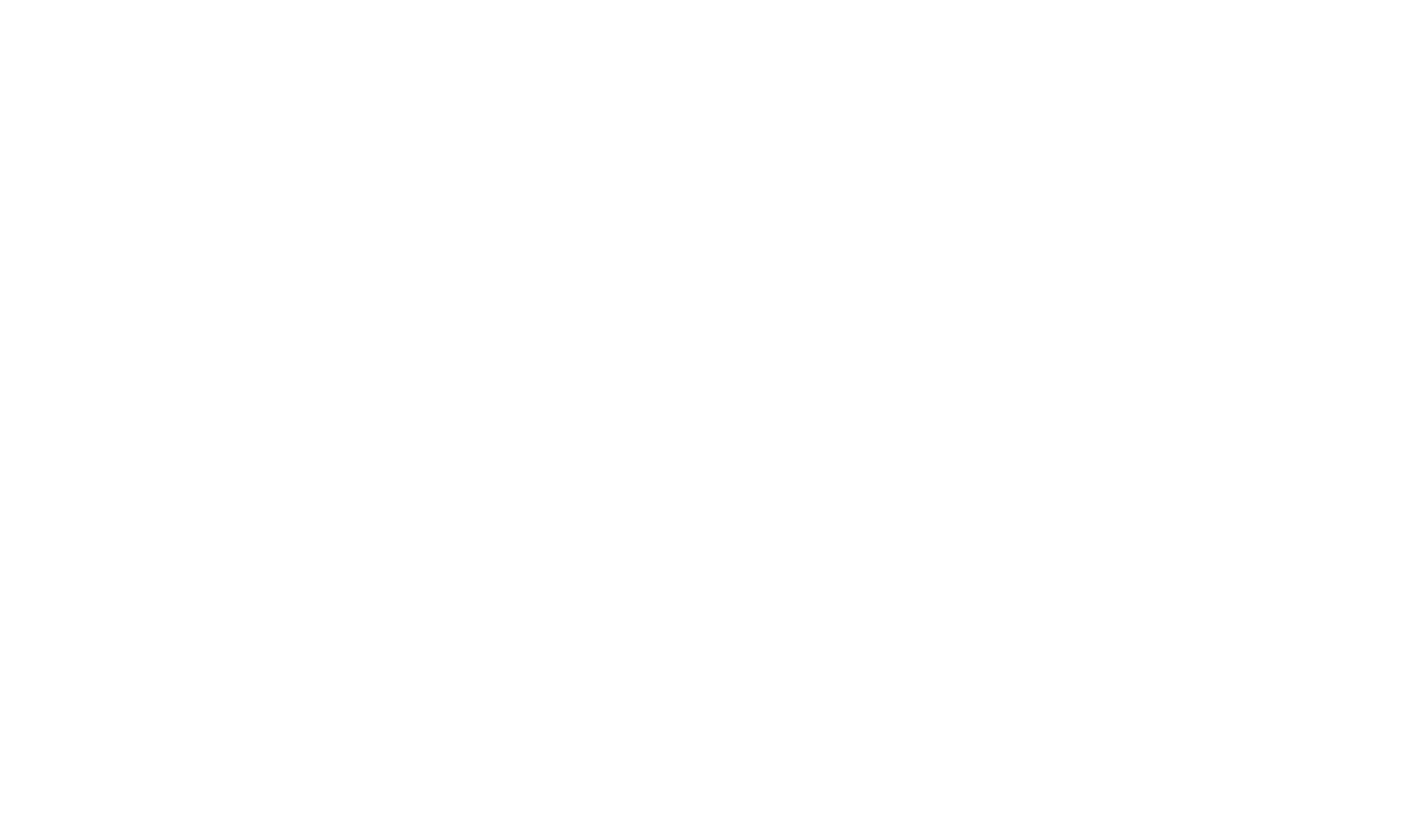
Фрагмент машинописной копии Дневника писателя из романа «Месиво»
источник: pl.wikisource.org
источник: pl.wikisource.org
Работа над романом была окончательно завершена в сентябре 1970 года. Анджеевский не без веских оснований предполагал, что цензура никогда не даст согласия на публикацию «Месива» в стране. Тем не менее, писатель отдал рукопись на рассмотрение в ПИВ (Государственный издательский институт), выказав полную готовность к дискуссии над текстом.
Очевидно, что самым простым решением было бы сразу опубликовать роман за границей, однако, как справедливо отмечает В. Британишский, «книгу „Месиво“, очень уж варшавскую, Анджеевский хочет издать в Варшаве» [26].
«Я живу в этой стране с самого рождения и не хочу ее покидать. Меня слишком многое связывает с прошлым и настоящим этой земли, я слишком стар и связан слишком многими семейными обязательствами, чтобы решиться на сомнительную судьбу политического эмигранта. Я хотел бы одного: чтобы „Месиво“ могло быть издано в Польше. Но я знаю, что это практически невозможно. Если я издам книгу в эмиграционном издательстве, то она будет переведена на другие языки, вероятно, даже прибавит мне известности, и что с того? Здесь, где я нахожусь и где живу, книга останется неизвестной. Ее прочтет сто, может быть, тысяча человек, может быть даже больше, но это не имеет значения, ее будет окружать глухая тишина» (Miazga, s.418) — пишет Анджеевский на страницах авторского Дневника, включенного в текст романа.
Тем не менее, как указывает А. Сынорадзкая-Демадр, ссылаясь на материалы из архива ПИВ, писатель поставил в известность главного редактора издательства Анджея Василевского, что если переговоры с редакцией зайдут в тупик, он оставляет за собой право опубликовать рукопись за границей [27].
В течение нескольких месяцев редколлегия ПИВа вела с Анджеевским активные переговоры относительно внесения правок в те или иные фрагменты текста. Анджеевский, цеплявшийся за последнюю надежду опубликовать роман в Польше, согласился отказаться от упоминания в книге ряда эпизодов и лиц, вызвавших особо резкое недовольство цензуры, внес необходимые изменения в большинство спорных моментов. А. Биконт и И. Щенсна в своей статье пишут: «Он (Анджеевский — А.С.)согласился изъять из книги несколько десятков страниц, в том числе фрагменты, которые цензура сочла „антисоветскими“. Книга была уже подписана в печать, когда тов. Ян Шидляк потребовал переслать ему рукопись. И отозвал согласие на публикацию» [28].
Официальное уведомление, высланное Анджеевскому от лица ПИВ в конце 1972 года (после 2-х лет мучительного ожидания и активных переговоров), гласило, что издание рукописи невозможно по причине… нехватки бумаги [29].
Попытка издания романа за границей также не увенчалась успехом. Анджеевский согласился опубликовать «Месиво» в Париже, но только с учетом всех правок и сокращений, затребованных польской цензурой. Редакторы парижской «Культуры» Ежи Гедройц, Зыгмунт Гертц и Густав Герлинг-Грудзиньский не смогли (или не захотели) понять намерения писателя, по всей вероятности, хорошо понимавшего, что издание за границей полного, неотцензурированного текста романа окончательно отрежет ему пути к отступлению, лишив даже гипотетической возможности публикации книги в Польше [30].
В результате случилось то, чего сам Анджеевский опасался, вероятно, большего всего на свете: книгу, которой он посвятил 10 лет жизни и которую без преувеличения считал своей «лебединой песнью», пришлось отложить в долгий ящик.
В это время писатель все реже обращается к литературному творчеству. С 1975 по 1981 год Анджеевский пишет всего 3 повести: «Вот и конец тебе» («Teraz na ciebiezagłada», 1975), «Уже почти ничего» («Już prawie nic», 1976) и «Никто» («Nikt», 1981).
В повести «Вот — и конец тебе», название которой восходит к стиху из пророка Изекиля, Анджеевский предлагает новую трактовку ветхозаветного мифа о первородном грехе и первом совершенном на земле преступлении — убийстве Каином своего брата Авеля.
Классический ветхозаветный сюжет интерпретируется с новых позиций: в поступках библейских героев Анджеевский усматривает подтверждение мысли о первобытности и неизменности основных аксиом человеческого существования: любви и ревности, зависти и борьбы за власть, заблуждений и самообмана.
Как пишет В. Британишский, «Анджеевский „ревизирует“ версию Пятикнижия: древнееврейские книжники приукрасили действительность, которая была еще более первобытной, еще более жестокой» [31].
Писатель в русле близкой ему концепции историософского пессимизма утверждает, что человеческий мир испокон веков несовершенен и жесток, а рай — лишь иллюзия, мечта, оставленная Богом в утешение несчастным грешникам. Главный герой повести — праотец Адам — увещевает своего младшего сына, юного Авеля: «кто однажды упустил счастье, знай это, дитя мое, никогда заново не обретет счастья. Бог не отменяет своих проклятий» [32].
В переосмысленном Анджеевским библейском сюжете конфликт между Каином и Авелем разворачивается из-за их различного отношения к мифу: Авель поддерживает созданную Адамом легенду о существовании утраченного Рая, в то время как Каин знает со слов матери Евы, что никакого рая — не было и нет. А «там, где есть миф, там всегда есть его жертвы» [33]. Авель должен умереть, чтобы рассказанная его отцом легенда о сотворении мира, могла жить в веках и продолжала давать людям надежду на обретение рая.
Такая трактовка сюжета сближает посыл одной из последних повестей Анджеевского с микророманом «Врата рая». Писатель вновь возвращается к теме истины и надежды. «Не ложь, а правда убивает надежду» (Врата…, с.188) — восклицал старый священник во «Вратах рая»; пусть я умру, но останется прекрасный миф о «сияющих вратах рая», недоступных и вечно манящих (Teraz…, s.36), словно вторит ему юный Авель.
В своеобразном авторском вступлении к повести «Вот — и конец тебе» Анджеевский пишет: «Что такое надежда? И что гордость… Знай, на вопросы из глубин не ищи ответа в каменных пространствах, одержимых надеждой и гордостью. Где же тогда искать выход из заколдованного круга? Во сне!.. Ибо у края незнания — сон, и у края неудовлетворения — тоже сон. И сном есть искусство» (Teraz…, 8).
Осознание жизни и искусства как сна находит продолжение в следующей повести Анджеевского — «Уже почти ничего», большая часть действия которой разыгрывается в ночных кошмарах, во сне, в предсмертном бреду умирающего писателя — нобелевского лауреата, гуманиста Германа Айсбергера.
В. Британишский справедливо определяет эту повесть как «портрет художника в старости» [34] (по аналогии с известным романом Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»).
В повести «Уже почти ничего» Анджеевский вновь (после романов «Идет, скачет по горам» и «Месиво») обращается к теме судьбы художника, объединяя этот мотив с еще одной чрезвычайно значимой для себя темой — самоощущением человека, находящегося на пороге старости, в полной мере сознающего близость и неотвратимость конца. Британишский пишет: «Если первая книга Анджеевского о старом художнике — „Идет, скачет по горам“ — была трагической, иронической, сатирической, но жизнеутверждающей, то новая вещь о старости и смерти глубоко пессимистична» [35].
Главный герой повести писатель Герман Айсбергер, по признанию самого Анджеевского, вылеплен «по образу и подобию» Томаса Манна, хотя несет в себе и ряд автобиографических черт автора. Это повесть о крушении последних надежд и утрате иллюзий.
Писатель вновь строит свой сюжет на разоблачении мифа, в этот раз — мифа о сверхчеловеческой природе гениальности. Признания Отто Хельда — личного секретаря Айсбергера, служившего писателю в течение многих лет и все это время презиравшего, если не ненавидевшего хозяина за его человеческие пороки и слабости, и предсмертные видения самого писателя — разрушают многолетнюю легенду, сложившуюся вокруг героя. Художник, посвятивший всю свою жизнь служению идеалам гуманистического искусства, подводя на смертном одре итоги своих трудов, умирает с сознанием поражения. Идеи, которые он проповедовал в прославивших его книгах, не смогли уберечь мир ни от мировых войн, ни от угрозы тоталитаризма. Более того, в жертву Идее и Искусству писатель приносит счастье своих близких, оказываясь невольным виновником гибели сына и самоубийства жены, и тем самым на собственном примере перечеркивает смысл идеалов, за которые когда-то боролся.
Предчувствуя приближение смерти, герой отчаянно пытается исправить хотя бы некоторые из совершенных ошибок (изменить текст завещания и содержание письма к г-же Харденберг), но осознание вины приходит слишком поздно. Человек, всю жизнь стремившийся нести людям свет (просвещения, добра, милосердия), умирает со словами «Больше тьмы!"[36].
Позиция Анджеевского глубоко пессимистична: последняя из, казалось бы, устоявших в мире морального «месива» ценностей — талант творца — подвергается демифологизации. Заканчивая свою повесть о великом писателе, Анджеевский пишет: «И стала тьма. В нем и вокруг него. Тьма» (Już prawie…, s.111).
Как пишет Анна Сынорадзкая, «большинство текстов, над которыми писатель пробовал работать в 1978−81 годах, это произведения, которые можно назвать „прощальными“. В них преобладает тематика смерти и безвозвратности прошедшего» [37]. Смерти и разочарованию посвящен последний законченный текст Анджеевского — повесть «Никто», в которой писатель обращается к некоторым мотивам «Одиссеи» Гомера.
Из многочисленных мифов о древнегреческом герое, неоднократно использовавшихся в мировой литературе, Анджеевский выбирает не историю его первого странствия, не приключения на море и на острове волшебницы Цирцеи, не возвращение на Итаку, но последнее путешествие, ставшее окончательным поражением и причиной смерти героя.
«Никто» — философская повесть-притча, сложная и необычная с точки зрения конструкции и авторского замысла, полная аллюзий и многозначных подтекстов. «Я называюсь НИКТО» — говорит о себе Одиссей, а «НИКТО — стало быть, всякий человек» [38].
Анджеевский пишет ни о ком и о каждом, обо всех и о себе в их числе. «Повесть эту о последнем странствии Одиссея, хотя и неутомимого, но уже изрядно утомленного, стоящего на пороге старости, следует воспринимать совершенно так же, как слушают сны, — понимая, что все, что рассказывается, существует по законам собственной своей реальности, связанной с жизнью, но и независимой от нее. Своеобразный характер этой истории не должен сказываться на ее внешней оболочке — насыщенный многозначностью и недоговоренностью, он должен создавать особую атмосферу доверительности, необходимую, прежде всего самому рассказчику» (Никто, с.441) — предупреждает повествователь в повести «Никто».
Последняя повесть Анджеевского проникнута, по выражению, Зофьи Мацужанки, «тотальным катастрофизмом» [39], в ней доминируют мотивы горечи, одиночества, разочарования.
В судьбе Одиссея Анджеевский видит трагедию человека, мудрого и бесстрашного перед лицом многочисленных жизненных испытаний, но беспомощного в неравном противостоянии со временем. Одиссей сознает, что миф, созданный, в том числе, им самим вокруг своих прошлых подвигов и побед, существует теперь независимо от него, что прославленный герой этого мифа, вызывающий зависть одних и восхищение других, есть истинный Одиссей, а сам он, живущий, но одинокий и постаревший, уже «никто». «Слава моя возглашается в песнях. Имя мое и деяния мои знают даже те, что родились, когда троянская война уже закончилась. Завтра о ней и о моих странствиях будут знать те, кто только завтра родится. Но где в этих песнях я? Мои мысли, огорчения, сомнения, заботы? Месяцы, дни и часы почти пятидесяти лет моей жизни? Кто из нас двоих подлинный — герой песен или я, живущий?» (Никто, с.509) — размышляет герой повести.
Не сумевший во второй раз полюбить «верную, но немолодую» (Никто, с.445) Пенелопу, безразличный к законному сыну Телемаху и управлению страной, в отчаянной попытке вернуть прошлое и, возможно, приобрести бессмертие Одиссей организует новое путешествие на остров волшебницы Цирцеи. Но возвращение в страну былого счастья оказывается трагическим разочарованием: уродливая старуха, сын-выродок и дикий запущенный сад встречают героя на некогда прекрасном острове вечно юной волшебницы. «Распад, прах и пыль, горечь и кривое зеркало жизни. Вот, что ожидает человека, если он захочет вернуть свои прежние переживания» [40] - комментирует повесть Анджеевского Зофья Мацужанка.
Одиссей погибает на корабле, обездвиженном штилем, в тот момент, когда первые порывы долгожданного ветра уже предвещают скорое избавление. И единственный из его уцелевших попутчиков — шут Смейся-Плач — «чтобы перекричать шум пробудившегося, бушующего мира» (Никто, с.557) во весь голос произносит над телом друга стихи Гомера, навсегда обессмертившие имя и подвиги героя.
Последние повести Анджеевского демонстрируют окончательный отход писателя от традиционной эпической манеры повествования. Анджеевский оформляет свои поздние тексты скорее как дневниковые заметки или черновики, допуская нелинейность и прерывистость действия, вкрапления авторского текста, смешение контрастирующих повествовательных техник и стилей.
В повести «Вот и конец тебе» писатель использует методы метапрозы, в ряде случаев снабжая текст авторскими комментариями.
В повести «Уже почти ничего» хаотичность и спутанность повествования мотивирована самим состоянием психики главного героя, который пребывает в предсмертном бреду. Подобно тому, как в «Апелляции» Анджеевский мастерски сымитировал язык человека с тяжелым психическим расстройством, в повести «Уже почти ничего», он обыгрывает стилистику сна, бреда, спутанного сознания своего героя — умирающего писателя Германа Айсбергера.
В повести «Никто» можно встретить как привычное повествование от лица неперсонифицированного рассказчика, так и сцены, оформленные на манер пьесы или киносценария — с авторскими ремарками в скобках: «Одиссей разражается громким, грубоватым смехом» (Никто, с.475); «Смейся-Плачь задумчиво» (Никто, с.475).
Сама повесть при этом разбита на пронумерованные сцены, которые, с одной стороны, напоминают разбивку на кадры или эпизоды в сценарии, а с другой, имитируют стихотворные строфы в «Одиссее».
В своей поздней прозе писатель вольно обращается с текстом. Где-то прорабатывает сцены вплоть до мелких деталей, где-то — обрывает на полуслове, словно устав от работы над книгой. У читателя Анджеевского невольно формируется ощущение, что текст творится прямо у него на глазах, и что он — читатель — также один из создателей этого текста. Это удивительное свойство — игра с читателем, вовлечение его в процесс творчества, со-участие читателя в тексте — станет одним из знаковых явлений европейской прозы будущих периодов, а у самого Анджеевского достигнет максимального развития в романе «Месиво».
Очевидно, что самым простым решением было бы сразу опубликовать роман за границей, однако, как справедливо отмечает В. Британишский, «книгу „Месиво“, очень уж варшавскую, Анджеевский хочет издать в Варшаве» [26].
«Я живу в этой стране с самого рождения и не хочу ее покидать. Меня слишком многое связывает с прошлым и настоящим этой земли, я слишком стар и связан слишком многими семейными обязательствами, чтобы решиться на сомнительную судьбу политического эмигранта. Я хотел бы одного: чтобы „Месиво“ могло быть издано в Польше. Но я знаю, что это практически невозможно. Если я издам книгу в эмиграционном издательстве, то она будет переведена на другие языки, вероятно, даже прибавит мне известности, и что с того? Здесь, где я нахожусь и где живу, книга останется неизвестной. Ее прочтет сто, может быть, тысяча человек, может быть даже больше, но это не имеет значения, ее будет окружать глухая тишина» (Miazga, s.418) — пишет Анджеевский на страницах авторского Дневника, включенного в текст романа.
Тем не менее, как указывает А. Сынорадзкая-Демадр, ссылаясь на материалы из архива ПИВ, писатель поставил в известность главного редактора издательства Анджея Василевского, что если переговоры с редакцией зайдут в тупик, он оставляет за собой право опубликовать рукопись за границей [27].
В течение нескольких месяцев редколлегия ПИВа вела с Анджеевским активные переговоры относительно внесения правок в те или иные фрагменты текста. Анджеевский, цеплявшийся за последнюю надежду опубликовать роман в Польше, согласился отказаться от упоминания в книге ряда эпизодов и лиц, вызвавших особо резкое недовольство цензуры, внес необходимые изменения в большинство спорных моментов. А. Биконт и И. Щенсна в своей статье пишут: «Он (Анджеевский — А.С.)согласился изъять из книги несколько десятков страниц, в том числе фрагменты, которые цензура сочла „антисоветскими“. Книга была уже подписана в печать, когда тов. Ян Шидляк потребовал переслать ему рукопись. И отозвал согласие на публикацию» [28].
Официальное уведомление, высланное Анджеевскому от лица ПИВ в конце 1972 года (после 2-х лет мучительного ожидания и активных переговоров), гласило, что издание рукописи невозможно по причине… нехватки бумаги [29].
Попытка издания романа за границей также не увенчалась успехом. Анджеевский согласился опубликовать «Месиво» в Париже, но только с учетом всех правок и сокращений, затребованных польской цензурой. Редакторы парижской «Культуры» Ежи Гедройц, Зыгмунт Гертц и Густав Герлинг-Грудзиньский не смогли (или не захотели) понять намерения писателя, по всей вероятности, хорошо понимавшего, что издание за границей полного, неотцензурированного текста романа окончательно отрежет ему пути к отступлению, лишив даже гипотетической возможности публикации книги в Польше [30].
В результате случилось то, чего сам Анджеевский опасался, вероятно, большего всего на свете: книгу, которой он посвятил 10 лет жизни и которую без преувеличения считал своей «лебединой песнью», пришлось отложить в долгий ящик.
В это время писатель все реже обращается к литературному творчеству. С 1975 по 1981 год Анджеевский пишет всего 3 повести: «Вот и конец тебе» («Teraz na ciebiezagłada», 1975), «Уже почти ничего» («Już prawie nic», 1976) и «Никто» («Nikt», 1981).
В повести «Вот — и конец тебе», название которой восходит к стиху из пророка Изекиля, Анджеевский предлагает новую трактовку ветхозаветного мифа о первородном грехе и первом совершенном на земле преступлении — убийстве Каином своего брата Авеля.
Классический ветхозаветный сюжет интерпретируется с новых позиций: в поступках библейских героев Анджеевский усматривает подтверждение мысли о первобытности и неизменности основных аксиом человеческого существования: любви и ревности, зависти и борьбы за власть, заблуждений и самообмана.
Как пишет В. Британишский, «Анджеевский „ревизирует“ версию Пятикнижия: древнееврейские книжники приукрасили действительность, которая была еще более первобытной, еще более жестокой» [31].
Писатель в русле близкой ему концепции историософского пессимизма утверждает, что человеческий мир испокон веков несовершенен и жесток, а рай — лишь иллюзия, мечта, оставленная Богом в утешение несчастным грешникам. Главный герой повести — праотец Адам — увещевает своего младшего сына, юного Авеля: «кто однажды упустил счастье, знай это, дитя мое, никогда заново не обретет счастья. Бог не отменяет своих проклятий» [32].
В переосмысленном Анджеевским библейском сюжете конфликт между Каином и Авелем разворачивается из-за их различного отношения к мифу: Авель поддерживает созданную Адамом легенду о существовании утраченного Рая, в то время как Каин знает со слов матери Евы, что никакого рая — не было и нет. А «там, где есть миф, там всегда есть его жертвы» [33]. Авель должен умереть, чтобы рассказанная его отцом легенда о сотворении мира, могла жить в веках и продолжала давать людям надежду на обретение рая.
Такая трактовка сюжета сближает посыл одной из последних повестей Анджеевского с микророманом «Врата рая». Писатель вновь возвращается к теме истины и надежды. «Не ложь, а правда убивает надежду» (Врата…, с.188) — восклицал старый священник во «Вратах рая»; пусть я умру, но останется прекрасный миф о «сияющих вратах рая», недоступных и вечно манящих (Teraz…, s.36), словно вторит ему юный Авель.
В своеобразном авторском вступлении к повести «Вот — и конец тебе» Анджеевский пишет: «Что такое надежда? И что гордость… Знай, на вопросы из глубин не ищи ответа в каменных пространствах, одержимых надеждой и гордостью. Где же тогда искать выход из заколдованного круга? Во сне!.. Ибо у края незнания — сон, и у края неудовлетворения — тоже сон. И сном есть искусство» (Teraz…, 8).
Осознание жизни и искусства как сна находит продолжение в следующей повести Анджеевского — «Уже почти ничего», большая часть действия которой разыгрывается в ночных кошмарах, во сне, в предсмертном бреду умирающего писателя — нобелевского лауреата, гуманиста Германа Айсбергера.
В. Британишский справедливо определяет эту повесть как «портрет художника в старости» [34] (по аналогии с известным романом Джеймса Джойса «Портрет художника в юности»).
В повести «Уже почти ничего» Анджеевский вновь (после романов «Идет, скачет по горам» и «Месиво») обращается к теме судьбы художника, объединяя этот мотив с еще одной чрезвычайно значимой для себя темой — самоощущением человека, находящегося на пороге старости, в полной мере сознающего близость и неотвратимость конца. Британишский пишет: «Если первая книга Анджеевского о старом художнике — „Идет, скачет по горам“ — была трагической, иронической, сатирической, но жизнеутверждающей, то новая вещь о старости и смерти глубоко пессимистична» [35].
Главный герой повести писатель Герман Айсбергер, по признанию самого Анджеевского, вылеплен «по образу и подобию» Томаса Манна, хотя несет в себе и ряд автобиографических черт автора. Это повесть о крушении последних надежд и утрате иллюзий.
Писатель вновь строит свой сюжет на разоблачении мифа, в этот раз — мифа о сверхчеловеческой природе гениальности. Признания Отто Хельда — личного секретаря Айсбергера, служившего писателю в течение многих лет и все это время презиравшего, если не ненавидевшего хозяина за его человеческие пороки и слабости, и предсмертные видения самого писателя — разрушают многолетнюю легенду, сложившуюся вокруг героя. Художник, посвятивший всю свою жизнь служению идеалам гуманистического искусства, подводя на смертном одре итоги своих трудов, умирает с сознанием поражения. Идеи, которые он проповедовал в прославивших его книгах, не смогли уберечь мир ни от мировых войн, ни от угрозы тоталитаризма. Более того, в жертву Идее и Искусству писатель приносит счастье своих близких, оказываясь невольным виновником гибели сына и самоубийства жены, и тем самым на собственном примере перечеркивает смысл идеалов, за которые когда-то боролся.
Предчувствуя приближение смерти, герой отчаянно пытается исправить хотя бы некоторые из совершенных ошибок (изменить текст завещания и содержание письма к г-же Харденберг), но осознание вины приходит слишком поздно. Человек, всю жизнь стремившийся нести людям свет (просвещения, добра, милосердия), умирает со словами «Больше тьмы!"[36].
Позиция Анджеевского глубоко пессимистична: последняя из, казалось бы, устоявших в мире морального «месива» ценностей — талант творца — подвергается демифологизации. Заканчивая свою повесть о великом писателе, Анджеевский пишет: «И стала тьма. В нем и вокруг него. Тьма» (Już prawie…, s.111).
Как пишет Анна Сынорадзкая, «большинство текстов, над которыми писатель пробовал работать в 1978−81 годах, это произведения, которые можно назвать „прощальными“. В них преобладает тематика смерти и безвозвратности прошедшего» [37]. Смерти и разочарованию посвящен последний законченный текст Анджеевского — повесть «Никто», в которой писатель обращается к некоторым мотивам «Одиссеи» Гомера.
Из многочисленных мифов о древнегреческом герое, неоднократно использовавшихся в мировой литературе, Анджеевский выбирает не историю его первого странствия, не приключения на море и на острове волшебницы Цирцеи, не возвращение на Итаку, но последнее путешествие, ставшее окончательным поражением и причиной смерти героя.
«Никто» — философская повесть-притча, сложная и необычная с точки зрения конструкции и авторского замысла, полная аллюзий и многозначных подтекстов. «Я называюсь НИКТО» — говорит о себе Одиссей, а «НИКТО — стало быть, всякий человек» [38].
Анджеевский пишет ни о ком и о каждом, обо всех и о себе в их числе. «Повесть эту о последнем странствии Одиссея, хотя и неутомимого, но уже изрядно утомленного, стоящего на пороге старости, следует воспринимать совершенно так же, как слушают сны, — понимая, что все, что рассказывается, существует по законам собственной своей реальности, связанной с жизнью, но и независимой от нее. Своеобразный характер этой истории не должен сказываться на ее внешней оболочке — насыщенный многозначностью и недоговоренностью, он должен создавать особую атмосферу доверительности, необходимую, прежде всего самому рассказчику» (Никто, с.441) — предупреждает повествователь в повести «Никто».
Последняя повесть Анджеевского проникнута, по выражению, Зофьи Мацужанки, «тотальным катастрофизмом» [39], в ней доминируют мотивы горечи, одиночества, разочарования.
В судьбе Одиссея Анджеевский видит трагедию человека, мудрого и бесстрашного перед лицом многочисленных жизненных испытаний, но беспомощного в неравном противостоянии со временем. Одиссей сознает, что миф, созданный, в том числе, им самим вокруг своих прошлых подвигов и побед, существует теперь независимо от него, что прославленный герой этого мифа, вызывающий зависть одних и восхищение других, есть истинный Одиссей, а сам он, живущий, но одинокий и постаревший, уже «никто». «Слава моя возглашается в песнях. Имя мое и деяния мои знают даже те, что родились, когда троянская война уже закончилась. Завтра о ней и о моих странствиях будут знать те, кто только завтра родится. Но где в этих песнях я? Мои мысли, огорчения, сомнения, заботы? Месяцы, дни и часы почти пятидесяти лет моей жизни? Кто из нас двоих подлинный — герой песен или я, живущий?» (Никто, с.509) — размышляет герой повести.
Не сумевший во второй раз полюбить «верную, но немолодую» (Никто, с.445) Пенелопу, безразличный к законному сыну Телемаху и управлению страной, в отчаянной попытке вернуть прошлое и, возможно, приобрести бессмертие Одиссей организует новое путешествие на остров волшебницы Цирцеи. Но возвращение в страну былого счастья оказывается трагическим разочарованием: уродливая старуха, сын-выродок и дикий запущенный сад встречают героя на некогда прекрасном острове вечно юной волшебницы. «Распад, прах и пыль, горечь и кривое зеркало жизни. Вот, что ожидает человека, если он захочет вернуть свои прежние переживания» [40] - комментирует повесть Анджеевского Зофья Мацужанка.
Одиссей погибает на корабле, обездвиженном штилем, в тот момент, когда первые порывы долгожданного ветра уже предвещают скорое избавление. И единственный из его уцелевших попутчиков — шут Смейся-Плач — «чтобы перекричать шум пробудившегося, бушующего мира» (Никто, с.557) во весь голос произносит над телом друга стихи Гомера, навсегда обессмертившие имя и подвиги героя.
Последние повести Анджеевского демонстрируют окончательный отход писателя от традиционной эпической манеры повествования. Анджеевский оформляет свои поздние тексты скорее как дневниковые заметки или черновики, допуская нелинейность и прерывистость действия, вкрапления авторского текста, смешение контрастирующих повествовательных техник и стилей.
В повести «Вот и конец тебе» писатель использует методы метапрозы, в ряде случаев снабжая текст авторскими комментариями.
В повести «Уже почти ничего» хаотичность и спутанность повествования мотивирована самим состоянием психики главного героя, который пребывает в предсмертном бреду. Подобно тому, как в «Апелляции» Анджеевский мастерски сымитировал язык человека с тяжелым психическим расстройством, в повести «Уже почти ничего», он обыгрывает стилистику сна, бреда, спутанного сознания своего героя — умирающего писателя Германа Айсбергера.
В повести «Никто» можно встретить как привычное повествование от лица неперсонифицированного рассказчика, так и сцены, оформленные на манер пьесы или киносценария — с авторскими ремарками в скобках: «Одиссей разражается громким, грубоватым смехом» (Никто, с.475); «Смейся-Плачь задумчиво» (Никто, с.475).
Сама повесть при этом разбита на пронумерованные сцены, которые, с одной стороны, напоминают разбивку на кадры или эпизоды в сценарии, а с другой, имитируют стихотворные строфы в «Одиссее».
В своей поздней прозе писатель вольно обращается с текстом. Где-то прорабатывает сцены вплоть до мелких деталей, где-то — обрывает на полуслове, словно устав от работы над книгой. У читателя Анджеевского невольно формируется ощущение, что текст творится прямо у него на глазах, и что он — читатель — также один из создателей этого текста. Это удивительное свойство — игра с читателем, вовлечение его в процесс творчества, со-участие читателя в тексте — станет одним из знаковых явлений европейской прозы будущих периодов, а у самого Анджеевского достигнет максимального развития в романе «Месиво».
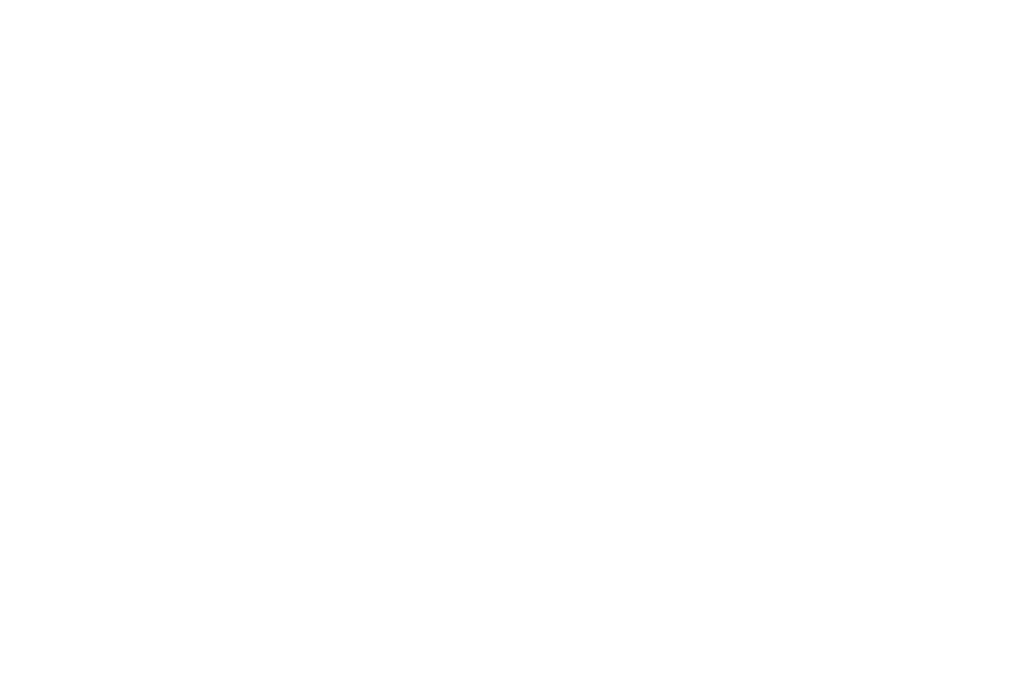
Первые фрагменты «Месива» увидели свет только в 1977 году, когда подпольный журнал «Запис», в редколлегию которого входил сам Анджеевский, опубликовал эссе «Месса по поэту» и речь Анджеевского, произнесенную на похоронах Павла Ясеницы (оба текста включены в роман «Месиво»).
В 1979 году нелегальное издательство «НОВА» опубликовало полный текст скандально известного романа. Несмотря на то, что роман, годами распространявшийся в виде «доморощенных», перепечатанных на машинке копий, наконец-то приобрел форму настоящей книги, а критика отметила его появление рядом восторженных рецензий в подпольной прессе [41], Анджеевский не был и не мог быть удовлетворен долгожданным успехом.
В своем ежедневном фельетоне на страницах «Литературы», который писатель вел в последние годы жизни, он писал: «Я дождался (хоть и в не вполне обычной форме) реализации моего если не самого большого, то наверняка наиболее важного ожидания последних лет. Но здесь время как будто бы разминулось само с собой: то время, когда зародилось мое желание, и время сегодняшнее, когда желание, наконец, исполнилось. Слишком многое их разделяет» [42].
Как справедливо пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «автор „Месива“ отдавал себе полный отчет, что его произведение, зародившееся еще из идеи протеста против Марта (имеются в виду события марта'68 — А.С.), десять лет спустя — после расстрела рабочих Выбжежа, падения очередных властных элит и появления подпольного оппозиционного движения — в значительной мере утратило актуальность» [43].
Не менее важным было и то, что нелегально изданная литература была доступна лишь ограниченному кругу читателей, а официальная публикация романа большим тиражом по-прежнему оставалось недосягаемой мечтой.
Перспектива легальной публикации «Месива» вновь «замаячила» только в начале 1980-ых годов, когда на волне крутых политических преобразований появилось официальное издание ранее запрещенной «Апеляции» [44]. Заинтересовалась изданием опального романа и эмиграционная пресса. В 1981 году «Месиво» было издано в Лондоне с пометкой «full uncensored text in Polish» (полный не подвергнутый цензуре текст на польском языке) [45].
Долгожданное официальное издание романа в Польше также состоялось в 1981 году. Часть двадцатитысячного тиража поступила в открытую продажу 13 января 1981 года, в разгар военного положения, однако большая часть тиража появилась в книжных магазинах только в начале 1982-ого года. Как вспоминают современники писателя, все экземпляры книги разошлись буквально за несколько часов.
Неизвестно, как факт официального издания «Месива» в Польше был воспринят самим Анджеевским. К этому времени писатель, скованный осложнившимися болезнями, уже полностью отказался от публичной активности, не выступал в прессе и не давал комментариев. Автор «Месива» ушел из жизни 19 апреля 1983 года.
В 1979 году нелегальное издательство «НОВА» опубликовало полный текст скандально известного романа. Несмотря на то, что роман, годами распространявшийся в виде «доморощенных», перепечатанных на машинке копий, наконец-то приобрел форму настоящей книги, а критика отметила его появление рядом восторженных рецензий в подпольной прессе [41], Анджеевский не был и не мог быть удовлетворен долгожданным успехом.
В своем ежедневном фельетоне на страницах «Литературы», который писатель вел в последние годы жизни, он писал: «Я дождался (хоть и в не вполне обычной форме) реализации моего если не самого большого, то наверняка наиболее важного ожидания последних лет. Но здесь время как будто бы разминулось само с собой: то время, когда зародилось мое желание, и время сегодняшнее, когда желание, наконец, исполнилось. Слишком многое их разделяет» [42].
Как справедливо пишет А. Сынорадзкая-Демадр, «автор „Месива“ отдавал себе полный отчет, что его произведение, зародившееся еще из идеи протеста против Марта (имеются в виду события марта'68 — А.С.), десять лет спустя — после расстрела рабочих Выбжежа, падения очередных властных элит и появления подпольного оппозиционного движения — в значительной мере утратило актуальность» [43].
Не менее важным было и то, что нелегально изданная литература была доступна лишь ограниченному кругу читателей, а официальная публикация романа большим тиражом по-прежнему оставалось недосягаемой мечтой.
Перспектива легальной публикации «Месива» вновь «замаячила» только в начале 1980-ых годов, когда на волне крутых политических преобразований появилось официальное издание ранее запрещенной «Апеляции» [44]. Заинтересовалась изданием опального романа и эмиграционная пресса. В 1981 году «Месиво» было издано в Лондоне с пометкой «full uncensored text in Polish» (полный не подвергнутый цензуре текст на польском языке) [45].
Долгожданное официальное издание романа в Польше также состоялось в 1981 году. Часть двадцатитысячного тиража поступила в открытую продажу 13 января 1981 года, в разгар военного положения, однако большая часть тиража появилась в книжных магазинах только в начале 1982-ого года. Как вспоминают современники писателя, все экземпляры книги разошлись буквально за несколько часов.
Неизвестно, как факт официального издания «Месива» в Польше был воспринят самим Анджеевским. К этому времени писатель, скованный осложнившимися болезнями, уже полностью отказался от публичной активности, не выступал в прессе и не давал комментариев. Автор «Месива» ушел из жизни 19 апреля 1983 года.
примечания
[1] Исключительно подробную историю создания романа, опираясь на знакомство с личными архивами Анджеевского и общение с его коллегами и родственниками, воссоздает Анна Сынорадзкая-Демадр в своем предисловии к последнему, самому полному изданию романа «Месиво» в 2002 году. См: Synorazka-Demadre A. Wstęp // Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002.
[2] Synorazka-Demadre A. Wstęp… S.XXXII.
[3] Цит. по: Synoradzka A. Andrzejewski. Kraków, 1997. S.157.
[4] Анджеевский Е. Идет, скачет по горам (пер. К. Старосельской) // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.2 С. 195. Далее цитаты приводятся по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[5] Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. С. 21.
[6] См. об этом сноску на с. 37 Главы 1 настоящей работы.
[7] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[8] Там же.
[9] См. об этом: Maciąg W. Wstęp // Andrzejewski J. Trzy opowieści. Wrocław, 1998; Kopeć Z. Jerzy Andrzejewski. Poznań, 2001.
[10] Synoradzka-Demdre A. Wstęp… S. XXIX.
[11] Британишский В. Указ. соч. С. 21.
[12] Żabicki Z. Geniusz w krainie mass culture // Żabicki Z. Proza… proza… Warszawa, 1966. S.233.
[13] Либера А. Два эссе. Свадьба, которой не было (О «Месиве» Ежи Анджеевского") // Иностранная литература, 2006, № 8.
[14] Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002. S.25. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[15] Дружба Ежи Анджеевского и Ярослава Ивашкевича началась в оккупированной Варшаве. Весной 1940-ого года Анджеевский даже снимал у Ивашкевича квартиру на углу Трембацкой улицы и Краковского предместья. В 1944 году, после побега из охваченной восстанием столицы, Анджеевский с семьей несколько дней скрывался у Ивашкевича в усадьбе Стависко, где в то время нашло убежище немало выдающихся польских литераторов. В последние годы современные исследователи все чаще указывают на «не только дружеский» характер отношений между Анджеевским и Ивашкевичем, приписывая им любовную связь (известно, что оба писателя имели гомосексуальные наклонности).
[16] Błażejewski T. Rękopis zagubiony w Stuttgarcie czyli możliwe możliwości możliwego // Błażejewski T. Literatura jak literatura. Łódź, 1987. S.15.
[17] Цит. по: Synorazka-Demadre A. Wstęp… S.LIV.
[18] Анджеевский Е. Апелляция (пер. Э. Гессен) // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 261. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[19] Synoradzka A. Andrzejewski … S. 163.
[20] Британишский В. Указ. соч. С. 24.
[21] На русском языке роман Кена Кизи «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» впервые вышел в 1989 году в журнале «Новый мир» в переводе В. П. Голышева под названием «Пролетая над гнездом кукушки». В 1975 году кинорежиссер Милош Форман перенес действие романа Кизи на экран (реж. М. Форман, сцен. Л. Хаубен, Б. Голдмэн, в гл. ролях: Дж. Николсон, Л. Флэтчер, США, 1975). Фильм получил пять самых престижных «Оскаров» (за лучшую картину, актера, актрису, режиссуру и сценарий) и вскоре стал культовым, так же, как и его литературный первоисточник.
[22] Британишский В. Указ.слч. С. 23.
[23] Там же. С. 24.
[24] Synoradzka-Demadre A., Wstęp… S. LXIII
[25] Ibidem.
[26] Британишский В. Указ.соч. С. 23.
[27] Synoradzka-Demadrе A., Op.cit. S.CVIII.
[28] Bikont A., Szczęsna I. Towarzysze nieudanych podróży. Literatura i miazga // Gazeta Wyborcza. 6−7.05.2000.
[29] Стоит также упомянуть, что перед тем, как окончательно отказать Анджеевскому в публикации книги власти провели масштабную кампанию, призванную мотивировать решение цензуры и дискредитировать художественные достоинства романа. С этой целью авторитетным литераторам и критикам (К.Брандысу, И. Шиманьской, К. Гурскому, А. Сандауэру и др.), было предложено написать рецензии на еще неопубликованный текст. Ожидалось, что рецензенты поддержат курс, выбранный официальными властями, и помогут «девуализировать легенду, создававшуюся как вокруг книги, так и вокруг фигуры самого Анджеевского» (См. об этом подробнее: Bikont A., Szczęsna I. Op.cit., а также: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXI).
[30] Ежи Гедройц так мотивировал отказ от публикации сокращенной версии «Месива» в Париже: «в книге не осталось ничего интересного» (Gedroic J. Autobiografia na cztere ręce. Warszawa, 1996). См. об это подробнее: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXV).
[31] Британишский В. Указ.соч. С. 25.
[32] Andrzejewski J. Teraz na ciebie zagłada. Warszawa, 1976. S. 37. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[33] Kopeć Z. Jerzy Andrzejewski. Poznań, 2001. S.163.
[34] Британишский В. Указ.соч. С. 24.
[35] Там же.
[36] Andrzejewski J. Już prawie nic. Warszawa, 1979. S.110. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведение указываются в тексте работы.
[37] Synoradzka A. Op.cit. S.185.
[38] Анджеевский Е. Никто // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 442. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[39] Macużanka Z. Od historycznego do egzystencjalnego // Nowe Książki. 1984. № 1. S.16.
[40] Macużanka Z. Op.cit. S.16.
[41] Томаш Бурек опубликовал в «Записе» большую критическую статью: Burek T. Tak długa nieobecność. Gło"Miazdze" // Zapis, 1980. (позже переиздано в: Burek T. Żadnych marzeń. Warszwa, 1989).
[42] Andrzejewski J. Gra z cieneim. Warszawa, 1987. S.10.
[43] Synoradzka-Demadre А. Op.cit. S.CXVIII.
[44] «Апелляция» была издана в варшавской «Твурчости» в 1981 году.
[45] Несмотря на многообещающий подзаголовок, А. Сынорадзкая-Демадр замечает, что в тексте романа, между тем, не хватало ряда эпизодов, которые были в издании, осуществленном в «НОВе» в 1979 году. (См. об этом подробнее: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXIX).
[1] Исключительно подробную историю создания романа, опираясь на знакомство с личными архивами Анджеевского и общение с его коллегами и родственниками, воссоздает Анна Сынорадзкая-Демадр в своем предисловии к последнему, самому полному изданию романа «Месиво» в 2002 году. См: Synorazka-Demadre A. Wstęp // Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002.
[2] Synorazka-Demadre A. Wstęp… S.XXXII.
[3] Цит. по: Synoradzka A. Andrzejewski. Kraków, 1997. S.157.
[4] Анджеевский Е. Идет, скачет по горам (пер. К. Старосельской) // Анджеевский Е. Сочинения в 2-х томах. М., 1990. Т.2 С. 195. Далее цитаты приводятся по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[5] Британишский В. Смятение эпохи // Анджеевский Е. Сочинения в двух томах. М., 1990. С. 21.
[6] См. об этом сноску на с. 37 Главы 1 настоящей работы.
[7] Британишский В. Указ. соч. С. 20.
[8] Там же.
[9] См. об этом: Maciąg W. Wstęp // Andrzejewski J. Trzy opowieści. Wrocław, 1998; Kopeć Z. Jerzy Andrzejewski. Poznań, 2001.
[10] Synoradzka-Demdre A. Wstęp… S. XXIX.
[11] Британишский В. Указ. соч. С. 21.
[12] Żabicki Z. Geniusz w krainie mass culture // Żabicki Z. Proza… proza… Warszawa, 1966. S.233.
[13] Либера А. Два эссе. Свадьба, которой не было (О «Месиве» Ежи Анджеевского") // Иностранная литература, 2006, № 8.
[14] Andrzejewski J. Miazga. Wrocław, 2002. S.25. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[15] Дружба Ежи Анджеевского и Ярослава Ивашкевича началась в оккупированной Варшаве. Весной 1940-ого года Анджеевский даже снимал у Ивашкевича квартиру на углу Трембацкой улицы и Краковского предместья. В 1944 году, после побега из охваченной восстанием столицы, Анджеевский с семьей несколько дней скрывался у Ивашкевича в усадьбе Стависко, где в то время нашло убежище немало выдающихся польских литераторов. В последние годы современные исследователи все чаще указывают на «не только дружеский» характер отношений между Анджеевским и Ивашкевичем, приписывая им любовную связь (известно, что оба писателя имели гомосексуальные наклонности).
[16] Błażejewski T. Rękopis zagubiony w Stuttgarcie czyli możliwe możliwości możliwego // Błażejewski T. Literatura jak literatura. Łódź, 1987. S.15.
[17] Цит. по: Synorazka-Demadre A. Wstęp… S.LIV.
[18] Анджеевский Е. Апелляция (пер. Э. Гессен) // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 261. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[19] Synoradzka A. Andrzejewski … S. 163.
[20] Британишский В. Указ. соч. С. 24.
[21] На русском языке роман Кена Кизи «One Flew Over the Cuckoo’s Nest» впервые вышел в 1989 году в журнале «Новый мир» в переводе В. П. Голышева под названием «Пролетая над гнездом кукушки». В 1975 году кинорежиссер Милош Форман перенес действие романа Кизи на экран (реж. М. Форман, сцен. Л. Хаубен, Б. Голдмэн, в гл. ролях: Дж. Николсон, Л. Флэтчер, США, 1975). Фильм получил пять самых престижных «Оскаров» (за лучшую картину, актера, актрису, режиссуру и сценарий) и вскоре стал культовым, так же, как и его литературный первоисточник.
[22] Британишский В. Указ.слч. С. 23.
[23] Там же. С. 24.
[24] Synoradzka-Demadre A., Wstęp… S. LXIII
[25] Ibidem.
[26] Британишский В. Указ.соч. С. 23.
[27] Synoradzka-Demadrе A., Op.cit. S.CVIII.
[28] Bikont A., Szczęsna I. Towarzysze nieudanych podróży. Literatura i miazga // Gazeta Wyborcza. 6−7.05.2000.
[29] Стоит также упомянуть, что перед тем, как окончательно отказать Анджеевскому в публикации книги власти провели масштабную кампанию, призванную мотивировать решение цензуры и дискредитировать художественные достоинства романа. С этой целью авторитетным литераторам и критикам (К.Брандысу, И. Шиманьской, К. Гурскому, А. Сандауэру и др.), было предложено написать рецензии на еще неопубликованный текст. Ожидалось, что рецензенты поддержат курс, выбранный официальными властями, и помогут «девуализировать легенду, создававшуюся как вокруг книги, так и вокруг фигуры самого Анджеевского» (См. об этом подробнее: Bikont A., Szczęsna I. Op.cit., а также: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXI).
[30] Ежи Гедройц так мотивировал отказ от публикации сокращенной версии «Месива» в Париже: «в книге не осталось ничего интересного» (Gedroic J. Autobiografia na cztere ręce. Warszawa, 1996). См. об это подробнее: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXV).
[31] Британишский В. Указ.соч. С. 25.
[32] Andrzejewski J. Teraz na ciebie zagłada. Warszawa, 1976. S. 37. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[33] Kopeć Z. Jerzy Andrzejewski. Poznań, 2001. S.163.
[34] Британишский В. Указ.соч. С. 24.
[35] Там же.
[36] Andrzejewski J. Już prawie nic. Warszawa, 1979. S.110. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведение указываются в тексте работы.
[37] Synoradzka A. Op.cit. S.185.
[38] Анджеевский Е. Никто // Анджеевский Е. Сочинения… Т.2. С. 442. Далее цитаты даются по этому изданию, страница и название произведения указываются в тексте работы.
[39] Macużanka Z. Od historycznego do egzystencjalnego // Nowe Książki. 1984. № 1. S.16.
[40] Macużanka Z. Op.cit. S.16.
[41] Томаш Бурек опубликовал в «Записе» большую критическую статью: Burek T. Tak długa nieobecność. Gło"Miazdze" // Zapis, 1980. (позже переиздано в: Burek T. Żadnych marzeń. Warszwa, 1989).
[42] Andrzejewski J. Gra z cieneim. Warszawa, 1987. S.10.
[43] Synoradzka-Demadre А. Op.cit. S.CXVIII.
[44] «Апелляция» была издана в варшавской «Твурчости» в 1981 году.
[45] Несмотря на многообещающий подзаголовок, А. Сынорадзкая-Демадр замечает, что в тексте романа, между тем, не хватало ряда эпизодов, которые были в издании, осуществленном в «НОВе» в 1979 году. (См. об этом подробнее: Synoradzka-Demadr А. Op.cit. S. CXIX).